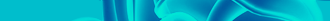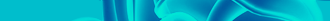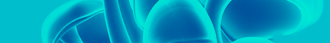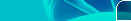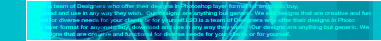©Павел Иванов-Остославский
МОЯ ЖИЗНЬ
(воспоминания)
Эпиграф:
«Приданья нашей старины
И ностальгические сны… »
А.С.Пушкин.
Под редакцией автора.
Украина. Херсон. 2010.
ПРЕДИСЛОВИЕ.
Моя жизнь. Какой она была? Да, собственно говоря, разной. Плохого было в ней гораздо больше, чем хорошего. В ней было много проблем и тягот, которые я преодолевал с большим трудом. Часто смерть – мнимая или реальная – стояла за моей спиной. Мне не страшно умирать. Родители моей мамы привили мне один жизненный принцип, которым я пользуюсь всегда: «Умри, но сделай!» Мне в жизни было трудно, даже очень трудно. Многое давалось с большим усилием, с надрывом, через «не хочу», через «не могу», через «невозможно»... Поэтому, каждый этап своего земного бытия, я воспринимал, как последний. Думал: «Умру, но сделаю! А, если не сделаю, то тогда точно умру!!! » Даже, когда учился в университете (звёздная для меня пора), я выбрал себе девиз, который написал на тетрадке с конспектами по латинскому языку: «Aut vincere, aut mori!» – «Победа или смерть!» Это девиз гладиаторов, конкистадоров, спецназовцев: словом – воинов. Как так произошло, что я – поэт, в высшей степени миролюбивый и гуманный человек, взял за жизненный принцип воинский девиз, от которого у нормального человека могут мурашки пробежать по коже от страха? Когда твоя жизнь – вечный последний бой и вечная неисправимая трагедия, поневоле станешь спецназовцем, ежеминутно штурмующим последний свой рубеж…
Моё мироощущение очень трагично. То событие, которое обычный обыватель воспринимает просто как банальную неприятность, в моей душе нередко вызывает негативные эмоции колоссального масштаба. Эти эмоции потом, как правило, изливаются на бумагу. Так рождаются стихи. Огромные излишки чувств, нереализованных желаний, различных душевных потенциалов, не нашедших себе применения в реальной жизни, – превращаются в литературные произведения.
Человеческая память имеет одно характерное свойство: она сохраняет всё доброе, приятное, хорошее, что произошло в жизни с человеком, а всё злое и скверное притупляет или вовсе стирает со своих скрижалей. Как правило, в мемуарах описываются события, на которые автор смотрит сквозь розовые очки ностальгии, любви и нежности к умершим близким, тоски по чему-то дорогому, не сбывшемуся, ушедшему безвозвратно… Эти воспоминания – не исключение. Я во многом обошёл в них мои многочисленные личные трагедии, скорби, обиды. Здесь нет всего самого страшного и неисправимого, что произошло со мной в жизни. Не хочется вспоминать о плохом. Что было, то было. Было и прошло… Скверну оставим на потом, а сейчас займёмся реконструкцией собственного прошлого: вспомним хорошее, помечтаем, предадимся светлой печале о дне вчерашнем...
В добрый час!
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ДЕТСТВО.
С самого раннего детства я был очень болезненным ребенком, слабым, худым до невероятности. Мама (Людмила Александровна Мадыкина) и бабушка Мария меня буквально «вымолили»… Я бы не выжил, но меня спасло два очень важных обстоятельства: за мной был прекрасный уход и я чрезвычайно любил поесть. Благодаря этому уже годам к десяти я стал немножко поправляться. Все ещё был худым, но вид уже приобрёл не изможденный, как в раннем детстве, а просто стройный.
Помню я себя лет с четырёх. Помню большое окно в нашей с мамой спальне. Оно выходило на улицу Черноморскую (в Херсоне). Помню, в окне был вид на дальние девятиэтажки. Их торцы были украшены первомайскими плакатами, на которых рабочий и крестьянка – радостные и дебелые – поздравляют друг друга с праздником. Отлично помню родителей моей мамы: дедушку Александра Ивановича Мадыкина и бабушку Марию Михайловну Сацевич. Дедушка в моем детстве всегда олицетворял собой мужественность, ум, силу и практичность. Он сумел устроиться в жизни так, что члены его семьи никогда не испытывали особых затруднений ни с жильём, ни с престижной работой, ни в развлечениях. Многие дедушкины друзья и знакомые принадлежали к кругу лиц, о которых говорят иногда с уважением и страхом: «сильные мира сего… ». История сохранила придание о том, например, что дед дружил с Юрием Томским (с 1954 года) – сыном руководителя Советских профсоюзов. Юрий был с семьёй сослан в Красноярск (в этом городе и произошло их знакомство). У него было две дочери-близняшки. Он работал в какой-то конторе, которая занималась организацией туристических экскурсий по всему Советскому Союзу. Через Томского дедушка познакомился со Светланой Аллилуевой – дочерью Сталина. Он был в её роскошной квартире в доме на Котельнической набережной – в Москве. В поезде Москва-Пекин дед встретился с Александром Вертинским. Данный случай сделал впоследствии его поклонником творчества этого знаменитого артиста и певца.
В Новосибирске дом, принадлежавший нашей семье, находился на углу улиц Красный Проспект и Державина. Соседями по улице Державина были Покрышкины. Дед дружил с ними, пока судьба не забросила его из Новосибирска, как говорится, в дальние края. Один из сыновей Покрышкиных впоследствии стал знаменитым советским лётчиком-истребителем. Звали его так же, как и моего деда – Александром Ивановичем и был он моложе моего предка всего на один год.
Дедушка Александр хорошо знал многих представителей государственной и советской элиты. О некоторых он отзывался очень уважительно. Он часто говорил о Щербицком (председатель Совета Министров УССР) и Косыгине (председатель совета Министров СССР). Дед восторгался этими людьми как реформаторами и стратегами, которые мыслят по-государственному. Он неплохо знал их лично, бывал на различных приёмах несколько раз в Москве и в Киеве. Он говорил о Косыгине, с которым познакомился ещё в Новосибирске, что это очень умный, волевой, образованный и знающий своё дело человек. Очень сухой и деловитый в общении, Алексей Николаевич всегда вёл разговор только по существу, не терпел лирических отступлений и «воды». Его трудами и умом, говорил дед, была поднята страна из руин после войны, он был великим созидателем, сделавшим очень многое, чтобы построить благополучную жизнь для простых людей. О Владимире Васильевиче Щербицком дедушка Александр отзывался, как о неутомимом деятеле, обладавшим огромной работоспособностью, требовательностью к подчинённым и волей. За годы своего руководства Украиной Щербицкий поднял выпуск сельскохозяйственной продукции в четыре раза. Этот факт вызывал в душе деда особенное благоговение. А вот о Херсонском обкоме партии дед говорил с презрением и насмешкой…
Члены маминой семьи всегда очень любили музыку. У мамы было огромное количество пластинок для проигрывателя, в основном классического репертуара: оперы, оперетты, водевили. Произведения Моцарта, Баха, Бетховена, Римского-Корсакова, Брамса, Чайковского. Были на пластинках записи певцов: Шаляпина, Козловского, Лемешева, Галины Вишневской. У дедушки в квартире стояло старинное австрийское пианино XVIII века. Он и мама иногда на нём играли. Но потом дедушка тяжело заболел, мама за ним ухаживала, работала на производстве от зари до зари (в проектном институте ведущим инженером). В конце концов, им обоим стало совсем не до музицирования, и пианино со временем продали.
Первое моё впечатление от жизни – стихийность. Года, пожалуй, в четыре, а, может быть, и раньше, я вдруг подумал: «Что это такое, жизнь? И вообще, куда я попал?» Жизнь сразу показалась мне хаотичной, какой-то безначальной и бесконечной, стихийной, полной случайностей, а ещё – несправедливой... «Человеческий мир устроен по законам здравого смысла и рассудка, а не доброты и милосердия,- вдруг решил я… ». Иногда мироустройство мне казалось абсурдным и очень жестоким, но разобраться во всём этом, будучи четырёхлетнем ребёнком, я, конечно, ещё не мог...
В детстве (особенно, в тот период, когда ребёнок, пусть ещё и считается маленьким, но когда уже в нём просыпаются отчётливые мысли и чувства) я впервые ощутил радость познания этого мира. Каждое новое утро я просыпался с ощущением, что родился заново. Каждый раз, когда я сбрасывал с себя забытье сна, я казался сам себе первооткрывателем нового прекрасного мироздания. Новизна моих ощущений была настолько острой, яркой, будоражащей сознание, что окружающая меня жизнь казалась мне фееричной, и вечно молодой, как хорошенькая и весёлая девушка-подросток, о которой никогда и не скажешь, что через каких-нибудь 70 лет она превратится в раздражительную, смертельно уставшую от жизни, сморщенную старуху.
Особенно я любил летние дни, когда огромное золотое и яркое солнце светило над городом, заполняя тёплым заревом нашу с мамой спальню. Радостью, надеждами на лучшее, счастьем заполнялась тогда моя душа… Так мне хотелось жить, так хотелось мечтать, любить и делать добро. Помню, бабушка Маша в такие погожие дни выходила на балкон кормить крупой птиц. Такими забавными и беззащитными казались мне маленькие коричневатые воробьишки, которые клевали пшено из бабушкиной пригоршни. Я так их жалел, пытался погладить и взять на руки, как будто они были котами, которых я всегда прижимал к себе и тискал в объятьях. Но, эти юркие птички, испугавшись меня, отскакивали в сторону и улетали прочь.
Воспитание, которое мне пыталась дать мамина семья, было построено на практичности, рациональности, уме, спартанстве. Недаром, дедушка Саша был прирождённым стратегом, добытчиком и бойцом. Всё он делал по уму и расчёту. Во всем у него присутствовал анализ ситуации, знание людей, жизненный опыт, учёт и устранение возможных рисков. К этому всему он старался приучить и меня. Но, как говорится, не тут-то было… Я оказался человеком малопригодным к восприятию дедушкиных жизненных установок.
Отец (Игорь Михайлович Иванов) воспитывал меня совершенно по-другому. Я почти не слышал от него слов о том, что мужчина должен быть борцом за свои интересы и интересы своей семьи, что он обязан много зарабатывать, побеждать конкурентов в борьбе за лучшее место под солнцем, вгрызаться в жизненные блага, бороться за женщину. Папины мировоззренческие установки всегда были абстрактны и направлены на достижение морально-этических и чувственных идеалов. Папа учил меня быть человеком Чести. Он прививал мне благородство, милосердие, доброе отношение к людям и животным, воспитанность, стремление к аристократизму и совершенству во всём. Он говорил о том, что следует всегда выполнять свой долг, помогать ближним своим, быть милостивым и великодушным человеком. Отец учил меня священному отношению ко всему прекрасному, изящному, утончённому. Он очень радовался, когда у меня стали получаться настоящие, хорошие стихи. Он хотел, чтобы я стал врачом, но, когда я определился с профессией не в пользу медицины, а в пользу литературы, не очень-то и огорчился. Он только покачал грустно головой и сказал:
– У каждого человека свой путь. Суждено тебе быть поэтом, будь им, ну, а как станешь зарабатывать себе на хлеб, это другой вопрос. Поживём, увидим…
* * * * *
Помню, когда мы с дедушкой Александром ездили на дачу, мы проезжали сначала восточный микрорайон, потом село Антоновку, потом бескрайнее поля, потом военный городок артиллеристов и связистов, потом снова поля, потом, недалеко от села Садовое, сворачивали у указателя «Дачи-1» направо. Потом, двигаясь по грунтовой дороге, сворачивали ещё раз направо, и вот мы оказывались под густым раскидистым шелкуном. Дедушка там ставил свою машину. Это как раз и была наша дача. У нас там был небольшой каменный и очень уютный домик. Мы там останавливались на сутки-двое. Как правило, приезжали туда на выходные. Бабушка с нами не ездила – у неё были очень больные ноги. Передвигалась она тяжело. Наша дача располагалась в месте слияния Днепра и Ингульца. Большая и тенистая, с огромными старыми деревьями, она казалась мне целым лесом. Это было тихое место. Бывало, в полной тишине слышался звук мотора проходящей по реке лодки. Стрекотанье это походило на звуки издаваемые насекомыми. Когда я был совсем маленьким, мне казалось, что таким голосом поют какие-то бабочки или кузнечики. Помню осенью душистый, терпковатый аромат яблок сортов Антоновка и Семерика. Как я любил эти яблоки! Кисловато-сладкие, пахучие, большие… Никакие бананы или ананасы с ними не сравнятся!
Моя бабушка Мария была обрусевшей полькой. По-польски она хорошо читала и говорила. Но католицизм не признавала. От католицизма отказалась ещё её мама. Их семья пережила очень тяжелые события. Ужасы сталинских репрессий и войны заставили бабушку и её родных разувериться в западной религии (и вообще в существовании Бога), а православие было для них чужим…
Так сложилась бабушкина жизнь, что она, когда ей было лет десять (бабушка 1901 года рождения), была увезена матерью из Брест-Литовского, где их семья жила раньше, в Китай. У бабушки ещё имелась младшая сестра – Вера. Все втроем они поселились в городе Харбин. Жизнь там была значительно дешевле, чем в России, к тому же, Харбин был полностью заселён тогда русским и русскоговорящим населением, китайцев там проживало мало, поэтому семья Сацевичей никаких культурных и языковых проблем там не испытала. Тамошним выходцам из Российской Империи казалось, что они никуда и не уезжали. Потом бабушкина мать Анна Степановна Сацевич (в девичестве Нецкович) вышла замуж во второй раз – за Каспера Семашко, начальника участка на КВЖД. Её первый муж – Михаил Сацевич – тоже был железнодорожным служащим. Он умер молодым: погиб под колёсами поезда.
В 30-е годы Сацевичи, приняли новую фамилию – Семашко – и переехали в Советскую Россию. Бабушка Мария поступила на медицинский факультет университета. С третьего курса её забрали чкисты. Ей предъявили ложное обвинение в том, что она одновременно китайская, английская и японская шпионка (!). Тогда она была беременной, так что моя мама родилась в местах не столь отдаленных – в Новосибирской тюрьме.
В 1955 году дедушка Саша, бабушка Мария и моя мама переехали в Херсон. Дед сразу стал работать в нашем городе главным инженером строящегося ХБК. До этого семья Мадыкиных жила в Ростове-на-Дону, ещё раньше – в Новосибирске и Канске (в Новосибирске дед окончил конструкторский факультет строительного института).
Дедушка Саша болел тяжелой формой сахарного диабета. Он постоянно кололся инсулином и соблюдал диету. Помню, как бабушка часто ругала его за отклонения от правильного диетического питания. Он любил сало и разные мясные блюда, в состав которых входила белая мука (например, пельмени или беляши). Согласно правилам здорового питания для диабетиков, такие кушанья к употреблению были запрещены.
Дедушка Александр очень гордился орденом «Трудового Красного Знамени», которым его наградила советская власть за строительные и административные достижения. Вообще же, начальство его всегда ценило и понимало, какого уровня он специалист. Ему предлагали должность заместителя министра лёгкой промышленности Украины по капстроительству. Он, было, согласился, перевёз вещи в огромную пятикомнатную квартиру в Киеве, но тут в его судьбу вмешалась тёща (Анна Степановна Семашко), которая жила в дедушкиной семье и которая, будучи уже тяжело больным человеком, не захотела переезжать в большой и незнакомый город. Так дед и остался работать в Херсоне.
Дедушка Александр хранил как самую, может быть, дорогую для себя реликвию офицерскую планшетку времён войны. История её такова. Когда началась Великая Отечественная, его старший брат Сергей получил призывную повестку в действующую армию. Ему надлежало прибыть на железнодорожный вокзал и откуда прямиком отправиться на фронт. Так он и сделал. Его провожал на вокзале дед Александр. Была торжественная обстановка. Звучал марш «Прощание славянки». Они на память обменялись планшетками. Надеялись ещё обязательно встретиться. Но, не судьба… Старший лейтенант инженерно-сапёрных войск Сергей Иванович Мадыкин погиб на восьмой день войны в Прибалтике при обороне моста. О своём старшем брате дедушка сохранил на всю жизнь воспоминания, овеянные теплом и болью… «Прощание славянки» он всегда слушал со слезами на глазах…
У дедушки уже в конце жизни было мало друзей. Среди них – соседи по гаражу, где дед держал свою машину – «Волгу» ГАЗ-22 цвета «кофе с молоком». Хорошо помню одного – Макарыча (Михаила Макаровича Романова, бывшего капитана первого ранга черноморского флота, фронтовика). Дедушка с Макарычем рассказывали друг другу разные истории о войне, делились жизненным опытом и советовались на самые разные темы. Конечно, обсуждали политику, ругали Горбачёва, вспоминали об эпохе Брежнева, как о начале большого разворовывания страны и сравнивали советское житьё-бытьё с дореволюционными временами.
Иногда, выкуривая трубку крепкого табака, дедушка рассказывал бесконечные и сказочные (сказочные для меня, конечно) истории о далёкой и загадочной стране Ирак. Дедушка когда-то был главным инженером строящегося ХБК в городе Кут. Он говорил, что арабы относились к нему, как к настоящему «белому господину»… Дедушкиной иронии, которую он вкладывал в выражение «белый господин», я не улавливал. Я всё думал: «Разве бывают не белые господа, а, например, зелёные или синие?»
У нас была просторная и очень светлая квартира на углу улиц Перекопской и Черноморской, в «сталинке». Эту квартиру наши знакомые между собой называли «генеральской». Все дома принадлежавшие херсонскому ХБК, в том числе и наш, строились под руководством деда. Он выбрал для своей семьи квартиру, какую захотел (тогда в доме ещё не было жильцов – он получил жилплощадь первым, поскольку являлся к тому времени управделами ХБК). Потолки были высотой – 3,20 м. Из огромных окон, выходивших на улицу Перекопскую, открывался очень живописный вид: днепровские плавни, Цурюпинск, степь, уходящая за горизонт…
Может быть, истоки моей мечтательности находятся в этом пейзаже? Как любил я в детстве встречать у окна рассвет, наблюдать, как утром оранжевое солнце постепенно выходит из-за горизонта, из-за далеких деревьев, растущих на той стороне Днепра. Я мог смотреть часами в окно нашей гостиной и мечтать, мечтать, мечтать…
Вообще, я рос очень ленивым и праздным ребёнком. Просто побродить среди деревьев на даче или по набережной Днепра в городе для меня было куда большим развлечением, чем что-нибудь сделать руками: починить табуретку или поменять дома перегоревшую лампочку. Настроение – вот что было для меня важным и действительно необходимым в жизни. Я все делал по настроению или по вдохновению.
Однажды дедушка Александр читал мне поэму Пушкина «Руслан и Людмила». Время было уже позднее, и я в какой-то момент стал засыпать. И вот слышу сквозь сон:
– Там днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом...
Дедушка заметил, что я дремлю, и говорит:
– Да ты меня не слушаешь. Он решает повторить фразу, прочитанную последней, и я снова слышу:
– Там днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом...
В моей голове эта фраза, видимо, крепко отложилась, записалась на подкорку, как говорится. На следующий день я у бабушки Маши спрашиваю:
– Бабушка, а кто такой Катучёный?
– Да нет такого, отвечает она, – есть только кот учёный.
Но я стал её уверять, что Катучёный – это персонаж сказок Пушкина и, что дед про него мне вчера читал. Тогда бабушка спросила:
– И как же он, по-твоему, выглядит?
– Катучёный – это один из невиданных зверей, о которых упоминается в предисловии к «Руслану и Людмиле», – сказал я.
И вдруг я представил себе этого странного зверя – Катучёного. У него не было никаких лишних рогов или крыльев, по виду он напоминал обычного жирного кота, но морда его мне представилась необычайно широкой и щекастой.
– Катучёный, – сказал я бабушке Маше, – это кот профессорского вида!
Услышав такое от меня, она очень смеялась.
И в семье моего отца и в семье мамы всегда было много домашних животных, в первую очередь кошек. Хотя мужчины относились к ним, в общем-то, сдержанно, для мамы и бабушек кошки были не просто приятными на ощупь, ласковыми и забавными зверьками, а чем-то значительно большим. Мама всегда относилась к ним, как к собственным детям. Она постоянно лечила их, покупала средства против блох, кормила чем-нибудь вкусненьким. Бабушка Маша тоже этим увлекалась. Она часто повторяла: «Не люблю людей, но люблю животных!»
В детстве я очень любил смотреть по телевизору художественные фильмы. Первым фильмом, который произвёл на меня сильное впечатление, был «Стакан воды». Потом мне очень понравился сериал «Гардемарины, вперед!». Оба эти произведения телеискусства были посвящены жизни аристократии. Мне эта тема пришлась по душе, как никакая другая. Красавицу-королеву Наталью Белохвостикову, благородного и мужественного Кирилла Лаврова и коварную Аллу Демидову из «Стакана воды» я запомнил на всю жизнь. Конечно, мне очень нравились советские оперетты. В них неизменный щеголеватый «маркиз» Игорь Дмитриев вместе с братьями Соломиными совершает массу красивых поступков, очаровывает всех прекрасных женщин и являет всем окружающим образец изящества и аристократизма. Как актёры мне очень нравились Юрий Яковлев, Владислав Стрежельчик, Василий Ливанов, Маргарита Терехова, и, конечно, же, самый прославленный и гениальный, любимец всей отечественной интеллигенции – Иннокентий Смоктуновский.
Одним из самых желанных и интересных развлечений в детстве было у меня играть с собакой Тимофеем – с Тимкой. Тимка был псом, так сказать, породы «дворняга», но, всё-таки у него проглядывали во внешности некоторые черты «водолаза». Нрава он был вполне дружелюбного и компанейского. Я любил кататься на нём верхом, как на лошади. Тимка всё терпел и не лаял, не рычал, если я неловко тянул его за длинную шерсть или заглаживал до невозможности. Тимка, когда мы ездили на дачу на машине, уходил с сидений в багажник и лежал там. Я же всегда лез за ним. Обнимал его там. Так мы и лежали вместе в просторном фургоне, в обнимку, пока не приезжали на дачу и ни раздавалась команда дедушки, адресованная мне и псу: «Ну, компания, вылазим!»
Часто дедушка Саша, Тимка и я гуляли в Приднепровском парке. Парк был рядом с нашей квартирой. Большой и тенистый, он напоминал о сталинских временах своими статуями, изображавшими рабочих, колхозниц, спортсменок и ещё каких-то мускулистых «товарищей» той поры. Мне нравилась тамошняя природа. Деревья, цветы, животные вызывали во мне умиление и желание заботиться о них. В восточной части парка, поблизости от детского кафе «Золотой ключик», когда-то размещался аттракцион: крытый павильон с электроавтомобилями, которые подключались к источнику питания с помощью высоких штанг. В этом отношении они чем-то напоминали троллейбусы. Автомобили были двухместными. Иногда я катался на них. Потом этот аттракцион убрали. В середине 80-х годов на том месте построили большую крепость в духе средневековья. Нынешняя детвора, наверное, не застала её. Крепость была построена из красного кирпича. Она имела все конструктивные элементы, какие были во времена средневековья у каждой настоящей крепости: бастионы, куртины, башни, бойницы, всевозможные деревянные лестницы и переходы, ну и, конечно же, рвы с поднимающимися мостами на цепях. А ещё там было несколько горок, с которых дети могли скатываться на землю с 10-15-метровой высоты. Не считая большого железного самолёта, напоминающего советский истребитель и установленного в северном углу крепости, вся обстановка создавала правдоподобную иллюзию старины. К сожалению, в лихие 90-е эту крепость местные жители разобрали по кирпичику. Сейчас на том месте растут деревья, и ничто не напоминает о ней, как будто бы и не было её вовсе…
У меня было много игрушек: машинки, мягкие звери в виде щенков, слоника, большого медведя, которого я очень любил. Пожалуй, самой любимой моей игрушкой в детстве был автомобильный конструктор. Бабушка и мама купили мне уже готовые, собранные из него машины. Но эти автомобили, по правде сказать, были примитивно сконструированы. Я принялся их усовершенствовать. Вскоре мои поделки абсолютно перестали походить на покупные. Они были мною придуманы значительно сложнее и интереснее. Хотя уже и прошло много лет со времён моего детства, но я до сих пор благодарен родителям за этот конструктор. Он развил во мне творческие способности и любовь к созиданию.
Хотя дедушкина квартира и считалась, так сказать, «генеральской», обставлена она была более чем скромно. На формирование деда Александра огромное влияние оказала война. Она сделала его суровым, порой жестоким, напрочь лишённым какой-либо тяги к роскоши и увеселениям человеком. Наш быт иногда напоминал окопное житьё офицера в землянке в три наката, расположенной где-то поблизости от передовой…
На квартиру к отцу мама меня водила редко. Дед с папой были в вечной ссоре, да и бабушка своего зятя тоже мало жаловала. Дед называл папу «барин», а меня, когда был зол или чем-то недоволен, «барчук». Хотя гражданская война между белыми и красными давно кончилась, но в моей семье она продолжалась.
В мои нечастые приезды к отцу, в его дом, он всегда устраивал для меня культурную программу. Как правило, я приезжал к нему на выходные. Мы с папой иногда ходили гулять. Брали с собой и маму. На улице Суворова ели мороженное, ходили летом к Днепру на набережную, иногда – на пляж. Изредка папа делал для меня из дерева различные поделки. Один раз сделал шпагу: клинок выпилил из длинной ровной палки, а эфес и гарду свил из толстой медной проволоки. Шпага на вид получилась совсем как настоящая, к тому же красивая – эфес был выполнен исключительно замысловато. Я всё заставлял отца на таком оружии фехтовать. Потом как-то он сделал для меня из кровельного железа саблю, точнее, шашку. Я играл с ней долго, пока не погнул лезвие о какие-то деревяшки (рубил палисадник и, кажется, ещё что-то). Самым интересным, но в тоже время немного огорчительным развлечением была игра в шахматы. Имея первый разряд по шахматам, папа постоянно меня обыгрывал. Это было очень обидно, но я старался научиться играть хорошо, поэтому обиду гнал прочь. Даже, чтобы доказать папе свою спортивную состоятельность и наличие ума (который так необходим для успешных занятий шахматами), лет в двенадцать я поступил в районную шахматную школу. Знаменита эта школа была тем, что её выпускницей была сама Инна Гапоненко – чемпионка мира среди девушек (женский подростковый разряд). Она ходила в школе грудь колесом (то есть, с оттенком важности и своей значимости), ну а я тогда только начинал играть, так что смотрел на Инну с большим интересом.
Иногда мы с отцом ходили стрелять из пневматического оружия в тир. Летом упражнения в меткости ещё сочетались с речными прогулками. Папа, мама и я брали билет на пароход и шли на нём в городок Голая Пристань, который расположен неподалёку от Херсона, на противоположном берегу Днепра. Я любил бывать в Голой Пристани. Во-первых, этот город не такой как Херсон, и там есть свои маленькие достопримечательности; во-вторых, стрелять из пневматического ружья мне было всегда занимательно (там был тир); в-третьих, отец мог купить мне какую-нибудь интересную игрушку. Так, как правило, и происходило.
Однажды папа приобрёл для меня большой игрушечный трейлер, на котором было много коллекционных маленьких машин, в основном «Мерседесов». Я был несказанно рад! Вот настоящий подарок для любителя автомобилей – такого, как я!
Помнится в 1986 году, наверное, в конце мая, к нам приехали родственники из Киева: родные сёстры тётя Лена и тётя Нина Адамовичи. Они привезли двух своих детей. Эти молодые женщины приходились троюродными сёстрами моей маме по линии Нецковичей. Нецковичи были первоначально зажиточными Варшавскими мещанами, но во второй половине XIX века они стали разъезжаться из Варшавы во все края Российской Империи. Предки тёти Лены и Тёти Нины оказались в Киеве.
Хотя они были родными сестрами, но характером обладали очень различным. Нина была младше, смуглая и очень красивая. Имела большой успех у мужчин. Лена была старше, умнее и энергичнее. У Нины муж был врачом, пластическим хирургом, а у Лены каким-то штабным армейским чином. Он хорошо умел рисовать. У них была квартира на Крещатике, светлая и просторная. Они её получили, когда вернулись из Германии, из Западной Группы Войск. Обе сестры закончили ВУЗы, одна библиотечный, а другая журфак Киевского госуниверситета.
Тогда, как раз, взорвалась Чернобыльская АС. Лена и Нина Адамовичи приехали в Херсон, чтобы спасти себя и своих детей от радиации.
Я их обеих совершенно не воспринимал, как своих тёть, поскольку они были значительно моложе моей мамы, а отцу они просто годились в дочери. Мой брат родной по папе – Сергей – и двое моих троюродных братьев и сестра как раз были близки по возрасту к Лене и Нине.
Тётя Лена и тётя Нина пробыли в Херсоне всё лето. Кончилась история их пребывания у нас тем, что они поссорились с дедом Александром, который не терпел расхлябанности и несобранности от других, особенно от детей и женщин. К тому же, у них были такие «столичные» замашки, от которых дед просто приходил в ярость. В сентябре они уехали. На этом дело и кончилось.
Дед Александр иногда рассказывал мне истории о своих предках. От него я узнал, что его отец был богатым крестьянином, потом рабочим. У него были собственные земельные угодья, небольшой лес, мельница («крупорушка»), на которую привозили молоть муку со всей округи. Дедушкин отец – Иван Федорович (Федотович) Мадыкин принадлежал, видимо, к «столыпинским» крестьянам. Жил он где-то под Канском, в Сибири. Как рассказывала мне мама, Иван Федорович очень любил животных. Бывало, пойдет на ярмарку за чем-нибудь нужным, а возвращается оттуда со слепой старой тощей лошадёнкой.
– Зачем тебе такая кобыла,– Иван? – спрашивала у него в таких случаях жена Наталья Сергеевна, – ты её, что на убой взял?
Но Иван Федорович в ответ только качал головой…
Через полгода эта лошадь, уже откормленная и ухоженная, запряженная в легкую бричку, возила моего прадеда по его крестьянским делам.
* * * * *
Отцовский дом был для меня совсем другим миром. Там многое казалось сказочным, волшебным, загадочным. У папиной мамы – бабушки Юлии – над кроватью висел гобелен. На нём была нарисована мельница, небольшой, но очень аккуратный домик, горный ручей, который крутил мельничное колесо. На заднем плане – горные хребты у подножия поросшие лесом. Их пики, покрытые ледовыми шапками, блестели на солнце. Альпийский пейзаж, изображенный на гобелене, казался мне верхом идиллии. «Вот там бы и жить!», – думал я.
Отец моего отца – Михаил Николаевич Иванов – удивлял меня своими художествами. Когда он садился за мольберт и начинал рисовать, я становился свидетелем непонятного, но завораживающего священнодействия. Масляные краски пахли необычайно приятно. Я видел, как чистый лист картона волшебно покрывался каким-либо изображением. Дедушкины мазки были точными, выверенными. Уже в раннем детстве я чувствовал его художественный талант и профессионализм.
Вообще же в доме отца все дышало стариной, книгами и искусствами. У папы были все многотомные труды по истории, изданные когда-либо в нашей стране: начиная от Карамзина, Соловьёва и Ключевского и кончая советскими изданиями последних лет. А сколько в нашей домашней библиотеке находилось одиночных исторических книг: и «Жены двенадцати цезарей», и «Воспоминания маршала Жукова», и «Большой иллюстрированный атлас первобытного человека», у которого на суперобложке был изображен огромный задумчивый питекантроп. Немало у нас было изданий по военной истории, нумизматике, геральдике. На книжных полках в отцовском доме стояли и подписные издания классиков мировой и русской художественной литературы.
В доме деда Александра тоже было немало книг. Кроме толстенных сочинений известных авторов, там находилось много журналов и изданий, посвящённых Великой Отечественной войне. В огромном библиотечном шкафу, который занимал всю северо-западную стену в спальне дедушки и бабушки, находились целые залежи «Нового Мира». Были там ещё журналы: «Красная Звезда», «Вокруг света», «Сделай сам» и ещё какой-то о животных. «Сделай сам» и о животных выписывались для меня. Это были детско-юношеские издания.
Мои любимые произведения в детстве – сказки Пушкина и «Дети капитана Гранта» Жюля Верна. Сначала мне их читала мама, потом, когда я сам научился читать, эти книги стали для меня настольными.
Папа свято относился к прошлому своей семьи. Когда он пересматривал старинные документы и фотографии, доставшиеся ему от предков, нельзя было рядом с ним разговаривать, даже находиться. Он сразу выпроваживал меня из комнаты, и я мог только издали смотреть, как он перелистывает коричневые плотные листы с царскими гербовыми печатями и вензелями. Он и меня научил относиться к старине с трепетом и благоговением…
Папа был бывшим фронтовиком. Участвовал в Великой Отечественной войне. Воевал простым солдатом в пехотных и сапёрных частях. Получил два ранение, второе – тяжелое. Почти год пробыл в тыловых госпиталях (госпиталь, где он лечился, находился в Новосибирске на Красном Проспекте, как раз на той же улице, где жила со своей семьёй моя мама – тогда маленькая-маленькая девочка, но в те времена они, конечно, не встретились), потом получил инвалидность третьей группы и вернулся домой. В одном батальоне с ним служил его отец – мой дед.
К одному из папиных пиджаков были постоянно прикреплены его ордена и медали. Папины награды составляли предмет особой гордости в нашей семье. Бывало, мы втроём (папа, мама и я) гуляли 9-го мая по городу. Нас встречали многие знакомые, раскланивались с папой, отдавая дань уважения его прошлым ратным заслугам.
Иногда к папе на лето приезжал его сын от первого брака – Сергей. Серёжа жил в Ивано-Франковске, там у него были дети – Оля и Миша, была и жена – Зинаида (еврейка). Оля была младше меня лет на восемь, Михаил был моложе своей сестры на 5 лет, так что разница в возрасте у меня с ним вообще считалась большой. Мой родной брат по отцу в детстве часто бывал в Херсоне. Он очень любил херсонские старинные уютные улочки, такие как: Суворова, Коммунаров, Краснофлотская, Ленина. На улице Краснофлотской жила его крестная мать Лариса Николаевна Сандулло. Она по отцу была гречанкой. Её предки выслужили себе потомственное дворянство на военной службе. Я как-то видел орден Святого Георгия, принадлежавший её отцу, который она хранила как самую драгоценную для себя реликвию. Лариса Николаевна старость прожила в одиночестве. Детей у неё не было, а муж давно умер. Одной из немногих настоящих радостей в её жизни было редкое общение с Сергеем.
Уезжая из Херсона в Ивано-Франковск, Сергей, как правило, брал с собой в дорогу пару ведер абрикосов и ещё помидоров. Он очень любил эти фрукты и овощи, да и его дети, наверное, дома несказанно радовались таким папиным гостинцам.
Сергей работал детским врачом, часто подрабатывал коммерцией, совершенно не связанной с медициной. Иметь двоих детей – это не шутка. Их надо было содержать, и это требовало от него неимоверных усилий. Он всё делал натужно, через силу, с надрывом. В какой-то момент в жизни ему все смертельно надоело, и он начал выпивать.
Мать Сергея (Элла Константиновна Козачук) по национальности была полькой, а по специальности врачом (я её никогда не видел и не знал). Её родители – актёры – жили в Херсоне ещё до войны. Отец даже был одно время директором херсонского драмтеатра. Мать – Мария – носила «подозрительную» фамилию: Бржесь-Березовская. Наверное, её предки являлись выходцами из польской шляхты.
Папа был хорошим художником. Я помню десятка два его работ, написанных маслом. Все эти работы – пейзажи, причём некоторые очень удачные. Все знакомые профессиональные мастера холста и кисти (например, Георгий Петрович Петров) отмечали несколько его картин, как довольно техничные и гармоничные в плане композиции.
* * * * *
Я воспитывался в двух детских садах. Один располагался во дворе нашего дома – там я был в яслях. Потом мама перевела меня в санаторный детсад, находившийся на улице Мира (угол с улицей Илюши Кулика). Туда я ходил до самого начала моего обучения в школе.
Мое пребывание в санаторном детском саду было знаменательно одним открытием, которое я сделал к своему немалому изумлению. Я вдруг почувствовал, что девочки моего возраста (пяти-шестилетние) мне нравятся мало. Я не увидел в них существ противоположного пола. Они были не развиты в этом плане ни с какой стороны. А вот взрослые девушки и женщины вдруг стали нравится мне по-настоящему…
Однажды, перед самым поступлением в школу, в мой детский сад пришли какие-то педработники, чтобы провести опрос детского общественного мнения. Они стали спрашивать у ребят подготовительной группы, кем бы они хотели стать. Многие дети говорили, что их мечта быть слесарем, или плотником, или врачом. Некоторые дети вообще мялись и не знали, что ответить старшим. Когда спросили меня, я сказал без запинки, что хочу быть министром иностранных дел (!). Все были ужасно изумлены моим планами на жизнь, а особенно родители.
В школу я пошел в семилетнем возрасте, как и все советские дети той поры. Это был 1985 год. Программа школы была значительно труднее детсадиковской. Хотя в детском саду у меня обострились способности к арифметике, в школе эти способности отошли на второй план, и я стал превращаться в гуманитария чистой воды. Очень любил русскую литературу, историю и географию. Учился я в 36-й школе, которая имела математический уклон. В те времена моя школа гремела на весь Союз своими якобы «новациями» и «достижениями». Только в чем состояли эти, так называемые, «новации» и «достижения», я не понимал тогда, да и сейчас (будучи уже дипломированным педагогом), не понимаю. Директрисой школы была одна огромная и чрезвычайно грубая бабища. Работая «строго по Макаренко», она превратила школу в тюрьму. Впрочем, и контингент – дети с Цыганки и Военки – был больше пригоден для воспитания в «местах, не столь отдалённых», чем в обыкновенной общеобразовательной школе.
В пионеры меня приняли в числе последних. Я не горел желанием вступать в пионерию и вообще, ко всякого рода внешним атрибутам советской жизни относился с большим недоверием.
Обучение в школе было для меня одним из самых кровавых периодов в жизни. Думал я, что не возьму этого рубежа – не получу полноценного образования. Однако ж, ошибся: образование в последствие я получил, чему был несказанно рад.
Вообще-то, в школьные годы я рос жестоким ребёнком (но жестокость моя распространялась только на людей, я никогда её не проявлял по отношению к животным или растениям). В драках я почти не участвовал, однако была пара случаев, когда серьезно поколотить обидчиков приходилось. Я всегда долго терпел обиды и унижения от школьного хулиганья. Но, когда мера моего бесконечного терпения была превышена, я становился зверем. Бил так, чтобы уже мало не показалось никому и никогда.
В младшей школе я учился сносно, в средней учиться не хотел вовсе, к 9-му классу я стал браться за ум, поэтому оценки у меня явно улучшились, и я попал в число «хорошистов».
Моей любимой школьной учительницей была Ольга Ивановна Гальвец. Она у нас читала русскую словесность. Именно благодаря ей я впервые почувствовал вкус к литературе, как к ремеслу. Она задавала писать большие изложения на определенные темы. Я не пропускал возможности, чтобы потренироваться в написании этих пересказов. Помнится, сочинил изложение по «Слову о полку Игореве». Оно получилось длиной листов на десять-двенадцать. Так увлёкся такой вот интересной работой, что сам не заметил, как превысил допустимый объём во много раз. Ольга Ивановна, поняв что, видимо, в моём сочинении проглядывают какие-то литературные способности, не поставила мне двойку (грамотность сильно страдала), а вывела на последнем листке «4» (тогда была принята в школах пятибалльная система оценивания). Этому я был очень рад! Первым моим благодарным читателем оказалась она. Это было, когда я оканчивал девятый класс.
Ольгу Ивановну я очень жалел. Говорили, что у неё был единственный сын, который погиб в Афганистане. В её классе над большой коричневой доской, на которой писали мелом, висел портрет молодого мужчины лет двадцати пяти. Он был в форме старшего лейтенанта ВДВ, на груди виднелся орден «Красной Звезды», медаль «За отвагу» и ещё какие-то награды. Я догадывался, что это он и есть – её погибший сын…
Совершенно нельзя сказать, чтобы я в школьные годы не интересовался девочками. Интересовался, особенно теми, кто был постарше, но, вступая с ними в отношения, понимал: скорее всего, эти отношения кончатся ничем. Так оно и оказывалось в конце концов.
В моём классе была одна очень примечательная особа. Звали её А... Многие мальчишки на неё засматривались. Нравилась она и мне. Красивая и волевая от природы, она производила впечатление цельной и разносторонней личности. Когда на её фотографию посмотрел мой отец, он сказал:
– У неё большое будущее.
Может быть, у неё было бы и в самом деле большое будущее, если бы она в лихие 90-е ни связалась с какими-то уголовниками и ни попала в сомнительную историю. Умерла она в 13 или 14 лет. Говорили, что ей в алкоголь подсыпали яду. Но кто и зачем это сделал, так и осталось загадкой.
В детстве я любил заниматься военно-исторической реконструкцией. Поскольку делать настоящие военные мундиры, амуницию и оружие было, конечно, очень дорого, да и сложно, а чем-нибудь военно-историческим заниматься всё-таки страсть, как хотелось, я сам начал придумывать солдатиков, а потом раскрашивать их цветными карандашами строго в соответствии с историческим каноном. У меня были пластмассовые покупные солдатики, были и металлические матросы с кораблями разных типов. Они мне нравились, однако у них был один существенный недостаток: их никак нельзя было совершенствовать. Я начал вырезать антропоморфные фигурки из бумаги или картона. Они не очень, может быть, походили на людей, но, главное, что они имели большую и удобную поверхность, чтобы можно было рисовать на них погоны, ордена, аксельбанты и прочие элементы военного мундира. Я стал подробно изучать униформу русской царской армии рубежа ХIX-XX веков. У меня она вызывала восторг, особенно гвардейские мундиры с эполетами. Я сделал так же некоторое количество человекообразных фигурок в немецкой форме «мышиного» цвета. После этого устраивал ролевые игры: на кровати пытался воспроизвести Брусиловский прорыв. Подушка у меня символизировала Карпатские горы, складки помятого одеяла тоже служили различными географическими объектами – то руслами рек, то линиями окопов. Из техники были у меня бронемашина-амфибия с двумя ракетами и танк Т-34 с электрическим двигателем, но они принадлежали к другим эпохам, и в общую картину происходящего явно не вписывались. Впрочем, палить из советской бронемашины образца где-то 70-х годов по отступающим цепям немецкой пехоты времён 1916 года тоже было интересно.
Уже ближе к юности я стал очень увлекаться медиевистикой. Читал разные исторические книги о временах средневековья, о рыцарских поединках, крестовых походах, аристократических обычаях, царивших в Западной Европе тех времён. Мне в руки попалась книга, которая называлась «1185-й год». Кто был её автором, я, честно говоря, уже и не помню (кажется, Виктор Можейко), но мне она понравилась тем, что в ней давался широкий обзор исторических событий в мире во второй половине ХІІ века. Средневековая Япония, древнерусский князь Игорь, идущий в поход на хана Кончака, немецкий император Барбаросса, утонувший в горной речке в Калинизийской Армении, завоевания крестоносцев в Передней Азии, борьба за Иерусалим, история Византии – всё это описывалось в книге и давало обширнейшую пищу для моей фантазии и мечтательности.
Году где-то в 1986-м по телевидению стали показывать итальянский сериал «Спрут». Он произвёл на всю нашу семью сильное впечатление. В нём рассказывалось о храбром полицейском комиссаре Коррадо Каттани, который боролся с «мафией». Что такое «мафия» у нас никто не знал. Зато несколько позже, когда стал разваливаться СССР, мы хорошо прочувствовали на своей шкуре, истинный смысл этого страшного и многозначительного слова…
Горбачёвская перестройка представляла собой довольно замысловатое явление. С экранов телевизора и со страниц газет стали литься на головы людей неиссякаемые речи о конверсии, демократизации, гласности. Власти СССР вдруг стали дружить с Америкой, хотя она со времён окончания Великой Отечественной войны всегда была для нас врагом № 1. Всё это выглядело более, чем странно... Многие люди таких перемен боялись. Дедушка Александр был уверен, что всё это не более, чем хитрый трюк советских спецслужб. Они, таким образом, полагал он, вылавливают поддавшихся на эту провокацию нестойких «товарищей». Чем ближе становился момент развала страны, тем больше чувствовалось «размягчение» власти. Вдруг стало можно всё. Руководство государства само сдавалось на милость многочисленным врагам, главными из которых были обнищание населения, обесценивание денег, дефицит товаров. Вышла из глубокого подполья та самая мафия, о которой так красиво повествовалось в «Спруте». Дед Александр понимал, что при таких методах хозяйствования СССР развалится рано или поздно (он просто не выдержит естественной конкуренции с Западом), но, что это произойдёт именно так, не мог предугадать даже он.
К развалу Советского Союза люди относились по-разному, но немало было и тех, кто воспринял это событие с сожалением.
В конце 80-х деду Михаилу (папиному отцу) государство в рамках программы протезирования инвалидов ВОВ подарило автомобиль «Запорожец». Помню, как папа и дед ездили в магазин выбирать машину. Папе очень нравился зелёный цвет, и он положил глаз на автомобиль светло-зелёного (салатного) цвета. Эта машина сразу пришлась мне по душе, и я стал называть её про себя «Кузнечик». На этом маленьком, но весьма симпатичном «Кузнечике» мы ездили на дачу. Потом, к моему большому сожалению, «Запорожец» пришлось продать. Денег, которые мы за него получили, хватило только на большой цветной телевизор…
Хотя в нашей стране большие неприятности у людей стали происходить в 90-е годы, в моей семье они начались ещё в конце 80-х. Дед Александр был обманут одним проходимцем при продаже нашей «Волги». Машина ушла за гроши. Деньги эти были положены на счёт в Сбербанк СССР, который скоро «лопнул» вместе со всеми дедушкиными сбережениями. Году в 1987 «собачники» застрелили нашего любимого пса Тимку. Была как раз весна. Он вырвался к «девочкам», сбежав от мамы во время очередного выгуливания. Больше мы его не видели. Только соседи по гаражу говорили, что на их глазах застрелили рыжую мохнатую собаку с белой стрелкой на морде. Наверное, это и был Тимка…
В 1990-м году умерла бабушка Мария, в 1991-м - дедушка Александр. Маме не платили зарплату, начали копиться долги за квартиру, нечем было оплачивать дачу и гараж, поэтому мама продала всё имущество, доставшееся ей от родителей, и мы стали жить в доме отца.
Многих любимых бабушкиных кошек мама раздала знакомым, некоторых перевела в квартиру отца – так наше кошачье «мадыкинское» поголовье перешло по наследству к папе.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ЮНОСТЬ.
В 1993 году я окончил 9 классов и поступил в Херсонский гидрометеорологический техникум. Теперь мы с мамой жили в отцовской семье, хотя семья эта тогда уменьшилась: в 1991-м году умер дед Михаил (бабушка Юлия умерла в 1987 году).
С 1993 года для меня началась совершенно другая жизнь. Я учился в техникуме, знакомился с новыми людьми. Полностью поменялся круг моего общения. Ко мне пришла утонченность – такое сильное и радостное воодушевление. Я ходил счастливым и очарованным. Весь мир стал расцвечиваться для меня миллионом тончайших полутонов чувств. Бывало, когда я смотрел на крону какого-нибудь старого раскидистого дерева, мне чудилось волшебство, что-то мифологически-мистическое, загадочное, непостижимое…
Особенно сильное и фееричное чувство прекрасного порождала в моей душе история и различные древности. Когда я проходил по улице Суворова, где много старинных красивых зданий, я начинал впадать в такое волшебное состояние счастья, в такой восторг, что сам удивлялся, как такое может быть. Будто бы какая-то блаженная энергия лилась на меня от этих старых каменных громадин. Мне было совершенно невозможно пройти спокойно рядом с Краеведческим историческим музеем. Я не раз благодаря связям среди сотрудников пробирался на выставки, в экспозицию. Старинные доспехи, оружие, пушки, дворянская одежда XVIII-XIX веков меня буквально гипнотизировали, завораживали своей прелестью и очарованием старины.
В 90-е годы мафия заменила собой официальные государственные структуры. Иногда государство и спрут организованной преступности так срастались, что нельзя было определить, где криминалитет, а где власть. Зачастую криминалитет и был властью. В Херсоне тогда действовала бригада, состоявшая из сотрудников МВД (я как-то узнал о ней через знакомых). Она занималась неофициальным выбиванием долгов (рэкетом). Члены этой банды, в большинстве своём оперативники и прочие следователи, могли выбирать, брать им дело на официальное рассмотрение или заняться им частным образом. Многие люди доверяли таким структурам больше, чем государственным органам. К бандитам появилось в обществе даже своеобразное «уважение»(!).
Девяностые годы были тяжелыми для страны. В Херсоне очень многим работающим людям не платили зарплаты. Большинство населения голодало. На улицах начали немножко постреливать. В бандитских разборках убивали бизнесменов и прочих лиц, у кого было, что взять или кто просто не хотел делиться с местным криминалитетом. Иногда уголовники отстреливали друг друга. Наша семья выжила тогда только благодаря папиной ветеранской пенсии, которую платили регулярно, да ещё подсобному хозяйству.
Переехав в папин дом, рядом с которым был кусок земли и несколько хозяйственных построек, я сразу поближе познакомился с соседями по дому – нашими двоюродно-троюродными родственниками – дядей Вовой Тропиным и его семейством. Дядя Вова был папиным двоюродным братом по линии Фроловых. Когда-то родная сестра бабушки Юли (Евгения) вышла замуж за горного инженера Евгения Андреевича Тропина – потомка херсонских купцов первой гильдии, основателей больницы Тропинка. От этого брака и происходил дядя Вова.
Человеком он был порядочным, но суровым, властным и волевым. Работал он начальником цеха на радиоузле. У него имелась дочь Маргарита, которая постоянно находилась при отце.
У нас во дворе жило когда-то семейство премилых таких паучков... каракуртов... Дядя Вова, когда ещё не знал, что это за насекомые, их очень жалел, потому что он – гуманист. Называл самца каракурта, который совершенно не похож на самку и менее ядовит, – «осаук». Он ему больше осу напоминал. Не убивал его, а брал на палку и осторожно садил на дерево за воротами. Потом, когда ему сказали, что это за зверь, он страшно испугался и тогда уже начал давить всех каракуртов без разбора. На него самка прыгала, хотела укусить, но он увернулся и раздавил её велосипедом. Потом были холодные и дождливые зимы, и наши каракурты все вымерли.
Как-то Рита, никогда не отличавшаяся какими-либо выдающимися способностями, вдруг стала предсказывать будущее всем своим родственникам. Я в её пророчества не верил, потому что был склонен не признавать никаких предрассудков и полагаться на свой ум, а не на хиромантию, однако, когда потом на протяжении последующих двадцати лет её предсказания сбылись, я был вынужден поверить. Но удивлению моему, конечно, не было предела…
У дяди Вовы был родной брат – дядя Женя. Он жил в другом месте со своей семьёй, и я с ним почти не виделся.
Я неплохо знал мать дяди Вовы и дяди Жени – мою двоюродную бабушку Евгению Васильевну Фролову (Тропину). Бабушка Евгения дожила до глубокой старости и умерла в свой день рождения – в 97 лет. Будучи ещё совсем юным человеком, я, честно говоря, тоже мечтал дожить до такого весьма почтенного возраста, тем более, что многие мои старшие родственники отличались долголетием. Однажды я подошёл к Евгении Васильевне, сидевшей во дворе на скамейке, и завёл разговор. Постепенно мы перешли на тему старости и длительности человеческой жизни. И тут я сказал:
– Я бы тоже хотел прожить так долго, как Вы!
В ответ я услышал от бабушки Жени долгую и гневную тираду, адресованную не столько, наверное, мне, сколько Судьбе. Она в «категорических» выражениях живописала мне все тяготы и скорби своего старческого существования.
– Зачем тебе жить до ста лет?! – с недоумением спросила она меня. Какой в этом прок?! Ведь жизнь со всей её моральной грязью, вечной изматывающей борьбой с трудностями, со всеми своими постоянными трагедиями надоест тебе уже годам к тридцати-сорока! А когда дойдешь ещё до старости, до немощи, до неотвязных болезней и одиночества, сам начнёшь проситься поскорее на тот свет.
Было в этих словах что-то зловещее, они звучали, как страшное пророчество. Они изумили меня до глубины души и заставили крепко призадуматься…
|