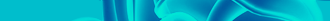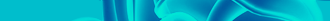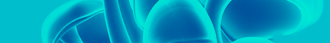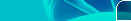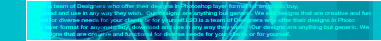ГЛАВА ТРЕТЬЯ. МОЛОДОСТЬ.
С поступлением в институт (который вскоре стал университетом) для меня начался совершенно другой, новый период в жизни. Я сам изменился до неузнаваемости. От того – хилого, душевно слабого, меланхоличного юноши, каким я был ещё пару лет назад, не осталось и следа. В моей душе произошёл взрыв: силы, эмоции, желания фонтанировали через край. Шутя, запоминал я целые учебники, с первого прочтения заучивал вузовские конспекты, поражал преподавателей, а главное, самого себя, необычайной волей и стремлением всё знать и всё уметь. Дойдя едва до середины первого курса, я стал читать лекции студентам своей же группы. Бывало какому-нибудь преподавателю надо было отлучиться во время занятий по «служебной» надобности (вызывали то в деканат, то в ректорат: ничего не поделаешь – надо идти… ), и он просил меня дочитать за него лекцию или провести семинар. Поскольку я всегда знал материал на несколько занятий вперёд, и к тому же, читал дополнительную литературу, преподаватели всегда могли на меня в трудную минуту положиться. На излёте первого курса доцент Елена Евгеньевна Бондарева сделала относительно меня свой прогноз:
– Быть Вам скоро аспирантом! – сказала она. Приходите после пятого курса ко мне – я подумаю, что с Вами делать.
Конечно, такими предложениями я очень гордился.
В университетские годы я очень сдружился с Людмилой Ивановной Черкун (заместителем декана нашего филфака) и с доцентом Ниной Павловной Тропиной. Собственно говоря, и все другие преподаватели имели со мной самые теплые или, как минимум, лояльные отношения. Конечно, кому же мог не понравиться студент-отличник («студент-профессор», как меня дразнили одногруппники), относившийся к учёбе с такой страстностью и восторженностью.
Однажды я участвовал в качестве актёра в студенческом игровом фильме. Кажется, это было на втором курсе. Доцент Демецкая, которая курировала у нас на факультете вопросы культуры и воспитания, попросила меня сыграть Эдварда Радзинского. Я должен был его спародировать. Голос у меня, как раз подходящий, да и внешне я был на него в какой-то мере похож. В образе Радзинского я говорил в кадре примерно следующий текст:
– Здравствуйте, дорогие мои ребятушки! Расскажу я Вам сейчас добрую сказочку, хорошие мои. Жил да был в одной северной стране один вредный дядька, которого звали Распутин. Натворил он столько бед, дорогие мои деточки, что его решили убить. Вчетвером стреляли в него из наганов, а потом утопили в реке. И поделом же ему, добрые мои малыши…
Фильм получился очень смешным, ну, а может быть, и не очень, но, во всяком случае, на всеуниверситетском конкурсе игровых роликов он получил первое место. После этого его отправили на аналогичный конкурс в Киев.
Среди вузовских преподавателей попадались весьма незаурядные личности. Например, когда я учился на подготовительном курсе ХГПУ, у нас читали свои дисциплины профессор Евгений Павлович Полищук (бывший ректор ХПИ) и профессор Виктор Павлович Ковалёв. Полищук преподавал нам историю мировой культуры. Он, помнится, рассказывал о древнешумерском эпосе Гельгемаша. Я слушал его лекцию с большим интересом, а две девчонки, которые сидели за соседней партой, играли в это время в крестики-нолики. Ещё два человека из нашей маленькой спецгруппы вообще не пришли…
Виктор Павлович Ковалёв читал нам лингвистическую стилистику. Он повествовал по мотивам своей докторской диссертации. Говорил об особой классификации метафор: «живое-живому», «неживое-неживому», «неживое-живому», «живое-неживому»…Мне было слушать его очень занимательно, но рядом кто-то снова мешал своими крестиками-ноликами и громким шепотом бог знает о чём…
В университете я познакомился с самым молодым профессором на Украине – с Анной Анатольевной Чумаченко. Анна Анатольевна читала у нас украинской фольклор. Она заметила мою жажду знаний и горячность в достижении своих целей и, как-то подозвав меня к себе на перемене, сказала:
– Я вижу, что Вы хороший студент, но у Вас очень плохой украинский выговор. Такой русский акцент я никогда ещё не слышала. Давайте я буду с Вами бесплатно заниматься, чтобы научить Вас правильно говорить по-украински.
Я поблагодарил Анну Анатольевну за такое очень лестное предложение, но от занятий отказался. Не хотелось мне быть должным такому известному человеку, да и не любил я украинский язык, честно говоря…
Когда я учился в университете, мне приходилось выполнять различные общественные обязанности. Самыми интересными были две из них: составление университетского и факультетского гербов и руководство литературной секцией факультетского научного студенческого общества. Мой первый конкурс по геральдике, на который надо было представить проект факультетского герба, я выиграл, и герб, составленный мною, потом целый год красовался на дверях деканата, пока факультет не переименовали и герб не заменили на другой; конкурс на общеуниверситетский герб я проиграл. Моя символика не понравилась ректору Беляеву. Мне потом передали, что Юрий Иванович сказал об этом:
– Мы – ВУЗ, а не Российская Империя! Нам такой сложный герб не нужен!
Тем не менее, за участие во всеуниверситетском геральдическом турнире я после четвертого курса был премирован недельной бесплатной поездкой в вузовский пансионат, на море.
Что касается деятельности в литературоведческой секции научного студенческого общества, то и эта работа казалась мне весьма увлекательной. Я делал лекции по истории и теории литературы, а потом читал их студентам-членам моей секции. За всё время моего обучения я прочитал таких лекций, наверное, около десяти. Большинство из них было посвящено авторам Золотого и Серебряного века русской поэзии. Особенно мне запомнилось моё выступление о творчестве и судьбе Марины Цветаевой. Сколько прекрасного и трагического было в её стихах, сколько боли, гордости, упорства… Моими самыми любимыми стихами Цветаевой были эти:
Поступью сановнически-гордой
Прохожу сквозь строй простонародья.
На груди - ценою в три угодья -
Господом пожалованный орден.
Нынче праздник слуг нелицемерных:
Целый дождь - в подхваченные полы!
Это Царь с небесного престола
Орденами оделяет - верных.
Руки прочь, народ! Моя - добыча!
И сияет на груди суровой
Страстный знак Величья и Отличья,
Орден Льва и Солнца - лист кленовый.
* * *
Есть в стане моем - офицерская прямость,
Есть в ребрах моих - офицерская честь.
На всякую муку иду не упрямясь:
Терпенье солдатское есть!
Как будто когда-то прикладом и сталью
Мне выправили этот шаг.
Недаром, недаром черкесская талья
И тесный ременный кушак.
А зорю заслышу - Отец ты мой рoдный! -
Хоть райские - штурмом - врата!
Как будто нарочно для сумки походной -
Раскинутых плеч широта.
Всё может - какой инвалид ошалелый
Над люлькой мне песенку спел...
И что-то от этого дня - уцелело:
Я слово беру - на прицел!
И так мое сердце над Рэ-сэ-фэ-сэром
Скрежещет – корми - не корми! -
Как будто сама я была офицером
В Октябрьские смертные дни.
* * *
Из строгого, стройного храма
Ты вышла на визг площадей...
- Свобода! - Прекрасная Дама
Маркизов и русских князей.
Свершается страшная спевка, -
Обедня еще впереди!
- Свобода! - Гулящая девка
На шалой солдатской груди!
Однажды, профессор истории Василий Николаевич Дариенко решил меня поощрить за рвение к наукам и отличное знание своего предмета. Он пригласил меня к себе домой и разрешил выбрать любую книгу по истории, с тем, чтобы я взял её почитать. У меня разбежались глаза! Такого количества материалов о прошлом нашей страны и вообще всего мира я ни видел нигде и никогда. Даже наша домашняя библиотека выглядела не так внушительно на фоне собрания исторических книг профессора Дариенко. Я попросил Василия Николаевича дать мне на время почитать Большую иллюстрированную энциклопедию по геральдике. Вернул я её примерно через пару недель. Прочёл её за это время от корки до корки – на одном дыхании – и остался потом очень доволен.
Однако, случаи, которые происходили со мной во время учёбы в университете, конечно, бывали разные. Порой я преподавателям просто надоедал своей кипучей жизнедеятельностью и необузданным желанием всё знать.
Однажды на семинаре по истории старший преподаватель Недзельский спрашивал мою группу по поводу древнего прошлого Украины. Профессор Дариенко надиктовал нам накануне обширный, но, в общем-то, простенький конспект по этой теме. Поскольку мы были студентами-филологами, а не историками, то слишком уж высокие исторические материи нам просто не давали. Отвечать на поставленные вопросы вызвался я. Изложение моего доклада наизусть, без бумажки составило минут сорок (то есть, как раз полпары). Я мог бы продолжать и дольше, но наш преподаватель вдруг раздраженно спросил у меня:
– Куда Вы лезете?! Мало того, что Вы кроме конспекта использовали для ответа сочинения Карамзина и Большую советскую историческую энциклопедию, но Вы же ещё наверняка начитались учебника археологии для исторических факультетов университетов! Вы специфическую профессиональную терминологию хоть понимаете?! Вы, может быть, полагаете, что будете преподаванием истории зарабатывать себе на жизнь?!
Я честно признался, что действительно проштудировал накануне учебник археологии, и что он мне очень понравился. В конце концов, преподаватель поставил мне пять баллов и сказал, что на экзамен я могу не являться: отметка «отлично» автоматом мне гарантирована.
Из-за моего неуёмного желания ответить на все вопросы преподавателей, везде успеть и быть первым во всех делах учёбы мои отношения со студентами-одногруппниками складывались порой не по-хорошему. Девчонки, которые учились вместе со мной, стали на практических и семинарских занятиях устраивать на меня целые облавы. Происходило это примерно так. Преподаватель спрашивает студентов в течение одной пары в соответствии с заранее известными вопросами. Обычно, на одно семинарское занятие таких вопросов приходилось 7-12, в зависимости от их объёма и сложности. Преподаватель, как правило, сначала вызывает добровольцев. Иногда, студенты желающие отвечать по своей доброй воле, находятся. Если предмет сложный или подразумевающий овладение большим объемом информации, желающих отвечать нет. Тогда преподаватель требует, чтобы ответили те студенты, которых вызывает он принудительно. Так протекали практические занятия в тех академгруппах, где не учились такие студенты, как я. В моей же группе всё было совсем по-другому. Преподаватель оглашает первый вопрос, на который он хотел бы услышать ответ добровольца. На этот вопрос вызываюсь отвечать я. Поскольку я излагал материал всегда на память, не по бумажке, правильно и красиво строил фразы и использовал в нём дополнительные материалы, а не только конспект, который начитал накануне профессор, то мой ответ занимает как раз полпары, если не больше. Преподаватель, в конце концов, благодарит меня за замечательную лекцию, ставит в журнал «отлично» и садит на место. Потом он оглашает следующий вопрос, на который он хотел бы услышать добровольный ответ студентов. На второй вопрос опять вызываюсь отвечать я. Иногда мне разрешали ответить и на него. Если преподаватель говорит мне «пожалуйста», я без запинки отвечаю и на второй вопрос. Естественно, что кроме меня на данном семинаре ещё кто-то из студентов себя хочет показать. Поэтому, когда мне разрешалось отвечать на семинаре большие темы или несколько тем одновременно, студенты поднимали настоящий бунт. Не давали мне подойти к кафедре, первые до неё добегали и, обложившись конспектами и учебниками, излагали тему, подглядывая в тексты и совершенно не обращая внимания на то, что преподаватель вызвал меня. Я, конечно, против этого публично протестовал, апеллировал к преподавателю, ведущему занятие, и требовал восстановления справедливости. Девчонки-студентки на меня за это «шипели», а потом ещё и придумывали мне всякие «интересные» прозвища. Например, наша староста Н.Г., которой я особенно мешал учиться, стала называть меня «букой» и «непризнанным гением» (это она так кокетничала)…
Мой распорядок дня во время учёбы в университете был всегда одним и тем же. В 06.00. – подъём. Умывание, бритьё, завтрак. С 07.00. – Штудирование учебников, конспектов и другой литературы. В 12.00 – выход в университет - на занятия. Шёл пешком минут сорок. Потом минут 15-20 оставалось на то, чтобы найти нужную аудиторию и бегло повторить выученный материал. В 13.00 – начало занятий. В 17.00. – уход из ВУЗа. Тут время могло, конечно, меняться в зависимости от того, сколько было пар. Шёл я домой всегда через парк Ленинского комсомола и ул. Суворова (гулял) В 18.00 – приход домой, обед, отдых. С 19.00. – Штудирование учебников и конспектов, чтение книг художественной литературы, которые необходимо было знать по программе. В 00.00. – ужин и отход ко сну. Если учебный материал был уж очень интересным, иногда засиживался и до двух-трёх часов ночи.
Девушки по мне стали сходить с ума. Но я сразу понял, что «воевать» на два фронта (на любовный и на учебный) я не смогу, поэтому всем девушкам неизменно отказывал. Уж очень мне хотелось окончить университет с красным дипломом и поступить в аспирантуру! Перспектива сделать научную карьеру манила меня, как зайца морковка. Я хотел повторить судьбу отца – стать учёным, кандидатом, хоть и не медицинских, но зато филологических наук!
Будучи на втором курсе, я стал участвовать в заседаниях литературного клуба «Улей». Этот литературный кружок был молодёжным, многие его завсегдатаи принадлежали к андеграунду. Я как классический автор андеграунд со всеми его новомодными и хамоватыми «штучками» очень не любил, но поэты-авангардисты относились ко мне дружески, и я два года участвовал в их литературном общении. Они, в общем, ценили моё творчество, но говорили, что всё это по большому счёту прошлый век, архаика. Одним словом, они держали меня в клубе, как интересный музейный экспонат. Но я на них совершенно не обижался.
* * * * *
Папа в те годы нередко оказывал людям бесплатную медицинскую помощь, занимался благотворительностью. Я хорошо помню, как приходили к нему какие-то серые, неприметные личности. Как, правило, это были крестьяне из далёких херсонских сёл. Заплатить за официальное обследование они не могли (а, может быть, не хотели). Узнав в Тропинке, где одно время работал отец, что в городе есть хороший доктор, который очень жалостливо относится к людям, они шли к нему в УТоС на приём.
Папа очень любил наш дом. Любил сад, зелень, разные вкусные овощи и фрукты, которые росли у нас просто повсеместно. Иногда мы с ним вместе сидели на скамейке у веранды. Помню, как сейчас, один сентябрьский день. Было тихо. Со всех сторон нас окружала густая тёмная листва. Сквозь сомкнутые кроны деревьев пробивались золотые лучи раннего, утреннего солнца. Было прохладно. Куст мускатного винограда «Изабелла», росший в другом конце двора, испускал аромат, который папе очень нравился. На душе у нас был покой и умиротворение…
* * * * *
Уже, будучи на пятом курсе, мне довелось написать одну «лишнюю», так сказать, «курсовую работу». Хотя все выпускники на последнем курсе писали только дипломную, я захотел помимо дипломной работы, «поразвлечься» ещё чем-нибудь эдаким, и попросил у Нины Павловны Тропиной, чтобы она дала мне тему курсовой по её предмету (по общему языкознанию). Нина Павловна сказала, что я не маленький и могу выбрать сам. Я решил писать работу по теме: «Предки и потомки носителей ностратических языков: палеолингвистический, археологический и расовогенетический аспекты исследования». Написал я эту курсовую примерно за неделю. Денно и нощно в течение всего этого периода сидел в библиотеках. В Историческом музее выпросил журнал, где было написано о дивергенции древних языков и о том, по каким гаплагруппам распределяют ученые их носителей. Было, конечно, там и много других интересностей, но объём поджимал (не больше 40 страниц формата А4), поэтому много материала пришлось оставить за бортом моего исследования.
Когда я стал докладывать работу Нине Павловне в присутствии всей моей 511-й группы, никто ничего не понял. Ностратика у нас как особое лингвистическое учение не преподавалась, а что касается археологических и биологических аспектов моей работы, то о них мои одногруппники и вовсе не захотели ничего знать. Если бы Нина Павловна не настояла, на том, чтобы они закончили шуметь и дали мне возможность доложить хотя бы те вопросы, которые касались нашей специальности, то они бы и палеолингвистическую составляющую моей курсовой проигнорировали. В результате все были в восторге: группа, отпущенная преподавателем домой чуть-чуть раньше звонка на перемену (это была последняя пара); я, получивший «пятёрку», а так же право не являться на Общее языкознание до конца семестра и на экзамен и Нина Павловна, порадовавшаяся тому, какого перспективного исследователя и, можно сказать, будущего учёного она воспитала.
Несмотря на мою отличную учёбу в ХГПУ, красного диплома я так и не получил. Виной этому было то, что, будучи на третьем курсе, я поссорился на политической почве с доцентом N.N., который ломал из себя украинского националиста, хотя при советской власти он был убеждённым коммунистом. N.N. в какой-то момент начал ставить мне одни круглые тройки по своему предмету – современный украинский язык. Со временем его тройки меня и «утопили».
В последствие, получить «синий» диплом мне было очень обидно, но ничего уже нельзя было поделать… Да и в конце концов, ни дипломом единым жив человек…
Помню радостным для меня мероприятием была процедура вручения дипломов. Всех выпускников по очереди вызывали на возвышенный помост актового зала, к ректору, который в торжественной обстановке, в присутствии чуть ли ни всего университета вручал синие и красные корочки. Честно говоря, тот день врезался в мою память даже не официальными торжествами, а общением с одной моей бывшей одногруппницей, которая тогда уже училась на другом факультете. Её звали И... Она была профессиональной вокалисткой, хотя и занималась на историко-филологической специальности. Накануне я подарил ей рукопись своих самых лучших стихов о любви. На неё они произвели настолько сильное впечатление, что она, увидев меня неподалёку от главного корпуса ХГУ, подошла и стала сразу благодарить за настоящее искусство. Потом И… растрогалась. На её глазах появились слёзы. Она крепко-крепко обняла меня за шею, поцеловала, прижалась ко мне с такой страстью и искренностью, на которые способна далеко не каждая женщина… Тогда я так остро и ярко почувствовал запах женщины: запах волос, терпковатый аромат дорогого парфюма; ощутил на своей щеке её тёплое дыхание… Я обнял её за талию – нежную, тугую, по-девичьи стройную, а она шептала мне что-то о том, что любит меня, любит мои замечательные стихи и вообще любит весь мир – такой загадочный и непостижимый… Так мы с нею и стояли в обнимку на глазах у многочисленного студенческого народа, пришедшего получить свои дипломы. Вообще она всегда была очень сентиментальным и добрым человеком. Когда И… пела, она часто срывалась на слёзы. Эта черта есть у многих людей искусства, для которых их творчество – это исповедь перед Богом. Они вживаются в художественный образ настолько сильно, что чувства начинают переполнять душу, изливаться наружу чистыми и щемящими слезами радости, слезами катарсиса. Хотя уже и прошло много лет с тех пор, но я до сих пор, вспоминая этот случай, ощущаю тепло и какую-то сладковатую досаду… Очень жаль, что с тех пор с И… мы так не разу и не встретились…
В 2000 году к нам в очередной раз приехал Сергей. На сей раз его приезд был не простым посещением отца: он должен был решить одно очень важное дело. Серёже было необходимо получить от отца разрешение на выезд заграницу. Они с Зинаидой и детьми решили покинуть страну навсегда и перебраться на родину Зининых предков.
Папа был против. Он сказал Сергею:
– Куда ты едешь?! В страну, где к тебе будут относиться враждебно!? Местные жители будут считать тебя врагом. Ты не найдёшь там работы, не подтвердишь диплом, не обеспечишь своих детей и станешь, в конце концов, неприкаянным и вечно неудовлетворённом жизнью человеком.
Сергей с папой полностью согласился, но заявил, что не хочет бросать детей, отпуская их одних, но, в тоже время, не хочет, чтобы они остались на Украине, потому, что здесь нищета и нет никакой перспективы для людей. Папа предложил ему остаться жить в Херсоне и работать тут по своей врачебной специальности. Сергей от этого отказался.
– Ну, что ж, будь, что будет, – сказал папа…
Он подписал для Сергея своё разрешение на выезд из страны и больше на эту тему разговоров не было…
Мой брат пробыл у нас около недели. Он в глубине души, конечно, понимал, что дела его оставляют желать лучшего, дело «табак», как говориться, но он ничего не мог уже поделать: машина отъезда была запущенна на полные обороты, его жена в Ивано-Франковске уже оформляла документы, дети паковали вещи – и у всех было «чемоданное» настроение…
В Херсоне тогда была ранняя осень – возможно лучшая пора в наших краях. Уже благоухали в нашем саду спелые фрукты и овощи, ушла летняя жара, и держалась ровная тёплая погода. Когда у меня кончались пары в университете, мы с Серёжей гуляли по паркам, смотрели сквозь листву на теплое золотое Солнце, любовались, находясь на набережной у областной библиотеки, днепровскими далями. Там, за речными островами простиралась бескрайняя таврическая степь, кое-где виднелась уже буровато-желтоватая листва деревьев, вдалеке – какие-то туманные строения Цурюпинска, а ещё дальше – сероватый горизонт, упиравшийся в синее-синее небо…
Как правило, напоследок, уже идя домой, мы брали в магазине «Таврия» пару бутылок разливного красного вина и чего-нибудь пожевать. Дома Сергей рассказывал о своей долгой и одновременно с тем, очень короткой жизни, строил планы на будущее, делал какие-то предположения… Мы пили вино, и жизнь казалась нам, хотя такой трудной, неоднозначной, порой трагической, но всё-таки чертовски интересной штукой…
Настал день, когда Сергею надо было уезжать в Ивано-Франковск. Я, папа и брат поехали на вокзал. Он сел в поезд. Отец уже не пытался его остановить. Он просто молчал, стоя рядом с составом. Сергей говорил какие-то ничего не значащие, банальные фразы…
– Когда я приеду на новое место, я тебе напишу, папа, – сказал он.
Отец, кажется, и не слушал его вовсе…
Поезд тронулся. Сергей и отец помахали друг другу на прощанье. Потом состав стал набирать скорость… Прозвучал гудок… Толпа, стоявшая у железнодорожных путей, стала постепенно рассеиваться. Мы с папой на перроне остались одни…
* * * * *
Однажды мы с папой пошли вместе в гости к Александре Николаевне Доррер. Графиня приготовила маленькое угощение: вкусные печенья со сливочным маслом, мёд и чай. Мы долго разговаривали на различные общекультурные темы: конечно же, как всегда о предках, о трудной жизни во время войны, о судьбах России. Я её спросил о том, какой она может дать прогноз по поводу будущего нашего народа. Она сказала, что обязательно будет лучше, что жизнь очень длинная и сложная штука и что она никогда не стоит на месте. Что-то приходит, что-то уходит, становится то лучше, то хуже, то опять лучше. Она очень верила в политику новых российских властей (тогда, как раз, на первый срок избрали Путина). Александра Николаевна очень надеялась на то, что Россия обязательно станет процветающей и сильной страной. Неурядицы 90-х годов она сравнивала со смутным временем, которое было в России в начале XVII века. Но это смутное время кончилось, и наше Отечество, окрепнув от войны и усобиц, стало вновь великой европейской и мировой державой.
Потом разговор зашел обо мне. Отец рассказал Александре Николаевне о том, что я ленив и мечтателен. Эти качества зачастую мешают человеку в жизни, считал он. Графиня, помолчав немножко, попросила меня пойти на кухню и поставить ещё чайку. Я вышел из комнаты. Наливая воду в чайник и ставя его на огонь, я слышал продолжение разговора папы с Александрой Николаевной.
– В Вашем сыне чувствуется порода, – сказала она. Павел очень талантлив. Будем надеяться, что его судьба сложится благополучно.
– Да, я тоже замечаю в нём породу, – сказал папа. Но таким вот людям в жизни, как правило, и не везёт…
К сожалению, тогда я не придал папиным словам должного значения. Увы, они оказались пророческими…
Папа очень дружил с Александрой Николаевной Доррер. Между ними было много общего: возраст, огромный житейский опыт, жизненные трагедии и тяготы за плечами, благоговейное отношение к истории, к искусствам. Это были два мудреца и мыслителя, которые порой поражали своей прозорливостью, умом, всепониманием. Все прогнозы, сделанные графиней Доррер и моим отцом по поводу меня, полностью сбылись. Они оба были последними хранителями настоящего дворянского духа и традиций в нашем крае. Среди членов Херсонского Дворянского Собрания младших возрастов не было никого, кто мог бы сравниться с ними даже близко.
Будучи на четвертом курсе ХГПУ я стал активнее писать. В творчестве возник новый всплеск. Бывало, в день мне удавалось написать по два действительно хороших, профессиональных стихотворения, а это очень много.
С большим удовольствием и с немалыми надеждами на будущую успешную карьеру я проучился в Херсонском государственном педагогическом университете пять лет.
Со временем моя утончённость стала блекнуть. В молодости и зрелости она полностью ушла. Я стал человеком мыслящим и чувствующим совершенно реалистично, прагматично, трагически. С течением времени я стал остро ощущать весь ужас того жестокого и безумного действа, имя которому – ЖИЗНЬ. В юности я задавался вопросом о смысле бытия (да кто ни думал об этом по молодости лет?). В зрелые годы пришло понимание абсурдности и бессмысленности человеческой жизни. «Жизнь, – думал я, – это такой спектакль, в котором всё решено за нас. Каждый актёр получил свою роль, каждый живёт на сцене, находясь в строгих рамках сюжета, фабулы, режиссёрского замысла. Актёр является рабом своего жизненного театра и своей пьесы, он ничего не может изменить. Лицедействуй, как можешь, или… умри… »
Тяжелые жизненные события иногда что-то ломали в моей душе. Так произошло впервые, когда умерли дедушка и бабушка – родители моей матери. Я их очень любил, особенно дедушку, который всегда для меня отождествлялся с мужественностью, силой, могуществом. В нём заключалось настоящее мужское начало. Это качество мне в нём особенно нравилось потому, что оно было присуще близкому мне человеку. Всегда хорошо и комфортно быть внуком сильного мира сего.
Второй душевный перелом произошёл у меня, когда я уходил из Гидрометтехникума. В моём сознании никак не укладывалось, как можно было проучиться два года и в результате не заслужить даже Аттестата Зрелости.
Третья душевная травма – это разрыв моей семьи с Дворянским Собранием, сопровождавшийся постоянными интригами со стороны нашего губернского предводителя, какими-то подковёрными делишками, а зачастую и прямым предательством. Предательство – это страшная кара, падающая на головы порядочных и легковерных людей. Предают всегда близкие, и от этого становится только больнее и страшнее…
Потом моя душа жила дальше. Она получала новые увечья, её била жизнь по всем бокам, делая больно, невыносимо больно… С каждой новой травмой моя вера в Добро и Справедливость становилась всё меньше и меньше. В какой-то момент она исчезла полностью.
«Я всю жизнь служил Добру, – думал я, – писал хорошие стихи, в которых призывал людей к Благородству и Красоте, не обижал никого и прощал, когда обижали меня, почему же я не заслужил, того, чтобы ко мне относились по-человечески?!» В моей голове постоянно крутилась вот какая мысль: «Если мир устроен жестоко, по-скотски и по-идиотски, то и жить не стоит… » В моей душе долгие годы зрело омерзение перед жизнью. Если в юности оно смягчалось утончённостью, поэтическими способностями, которые уводили меня от суровой реальности в страну мистических и прекрасных грёз, то в более зрелом возрасте, это чувство стало овладевать мною всё сильнее. Нравственная гадливость по отношению к жизненным реалиям стала в какой-то момент меня буквально сжигать изнутри, испепелять мою душу… Я много думал, но не мог ответить на вопросы волновавшие меня: «Почему в жизни всё решает сила, жестокость, злость?». «Кто так установил, что люди постоянно должны между собой бороться без правил и жалости, воевать друг с другом за место под солнцем!?». «Неужели люди такие скоты, что они постоянно должны выживать в этой жизни за счёт других!?». «Кто возвёл весь этот маразм в ранг закона?». «Кто тот идиот, который сделал безумие повседневной реальностью?» «Почему наглые и подлые людишки правят миром, а добрые люди очень многие ещё в юности сходят в могилу?». «Почему литературный талант признают только за сильными или прославленными личностями, а если ты талантливый, но безвестный автор, то другие априори тебя будут считать никем и ничем?». Я всегда думал, что уровень способностей в каком-либо деле и уровень известности – это совершенно разные величины, которые друг от друга мало в чём зависят. «Почему близким людям, которые нас любят и оберегают, мы часто плюём в душу, даже не замечая этого, а своим врагам, которых бы стоило сжить со свету за их подлость, мы кланяемся в ножки?». Где логика, где здравый смысл, где совесть, наконец??? Жизнь всё острее и острее представлялась мне театром абсурда, а Главный Режиссёр этого театра – идиотом и подлецом…
|