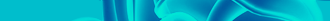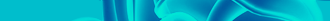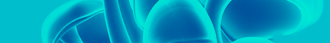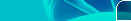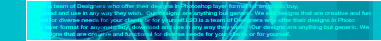Катков говорил, что в присяге наша конституция, по которой мы имеем больше чем политические права – мы имеем политические обязанности. Это отчасти верно, но в сущности, подлинная конституция была в священном короновании. Там исповедовалась неразрывность нашей Царской власти с Православной Церковью, там Самодержец торжественно заявлял, что он ограничен Законом Божиим, что он – Божий слуга. В молитвах этого замечательного чина, углубленного уже в Императорский период, а до того весьма краткого, – самое глубокое изложение сущности русской верховной власти и ее главных задач. Тут государственные принципы Святой Руси получают свое самое яркое и глубокое выражение."
Вне подобной религиозной осмысленности Царской власти в России нельзя вообще понять ее сущности. Тот, кто не понимает, что такое Православие, не может понять и того, что такое – Русский Царь. Отделенная от своей церковно-православной природы, несущей в себе глубочайшие "ограничения," теряет самый свой смысл Царская власть, как она выработана тысячелетней русской историей. Это прекрасно понял знаменитый историк русского права Сергеевич, который распознал юридическое своеобразие русского самодержавия и потому решительным образом отвергал применимость к нему понятий западного абсолютизма!
Этого-то и не понимало образованное общество. Оно не имело проницательности величайшего правоведа-историка и вместе с тем утратило уже способность мыслить и чувствовать так, как велит Православная Церковь, так что смысл русского самодержавия для этого общества испарился. Тут и лежит корень безвыходного непонимания обществом Царя.
Царь, оставаясь Русским Царем, не мог себя ограничить западной конституцией, но не потому, что судорожно держался за свою власть, а потому что эта власть по своему существу не поддавалась ограничению. Ограничить ее – значило изменить не ее, а изменить ей. И тут напомним еще одно обстоятельство, еще более значительное для церковно-верующего человека: Русский Царь не просто Царь-Помазанник, которому вручена Промыслом судьба великого народа. Он – тот, единственный Царь на земле, которому вручена от Бога задача охранять Святую Церковь и нести послушание до второго пришествия Христова. Русский Царь – это Богом поставленный носитель земной власти, действием которого сдерживалась до времени сила врага. В этом и только в этом смысл преемственности русской царской власти от Византии...
Это именно нужно учесть, чтобы понять, какую трагедию переживал Император Николай 2-ой, когда у него вымучивали манифест 17 октября и, наконец, вырвали то, как он говорил, "страшное решение," которое он, перекрестившись, принял, не видя другой возможности спасти страну.
Создав народное представительство, Царь принял, однако, новый порядок, лишь как изменение техники высшего правительственного механизма. Человек исключительно лояльный и без личных пристрастий и увлечений, он с необыкновенной скрупулезностью соблюдал закон в отношении Государственной Думы, – как он его соблюдал во всех других случаях. Но эта механика оставалась ему внутренне чуждой, как не знавшая прецедентов в русском прошлом.
Об этом ясно свидетельствует опубликованная при советской власти переписка Царя с министром внутренних дел Маклаковым. Настраивая Царя против Думы, Маклаков в 1913 году испросил у Царя разрешение распустить ее, если ему не удастся ввести ее в "законное русло." Из замыслов Маклакова ничего не вышло, так как он встретил в Совете министров решительную и сплоченную оппозицию. Но любопытно, что Царь в своей переписке высказал свое полное несочувствие сложившемуся у нас государственному порядку. Он писал: "Также считаю необходимым и благонамеренным немедленно обсудить в Совете министров мою давнишнюю мысль об изменении статьи учреждения Государственной Думы, в силу которой, если Дума не согласится с изменениями Государственного Совета и не утвердит проекта, то законопроект уничтожается. Это – при отсутствии у нас конституции, есть полная бессмыслица. Предоставление на выбор и утверждение Государя мнения и большинства и меньшинства будет хорошим возвращением к прежнему спокойному течению законодательной деятельности, и притом в русском духе.
Таково было личное мнение Царя, на котором он, конечно, не стал настаивать, ибо был человеком, лишенным мелочности и упрямства, которые ему упорно ставят в вину. Напротив, он заботливо покрывал замечательную и своеобразную русскую "конституцию," выраженную в Основных Законах 23 апреля, своим высоким покровительством. Но это не могло означать для него, чтобы он всегда и при всех условиях считал себя обязанным подчиняться той форме, которая была выражена в "конституционных" законодательных актах. Ведь только он один продолжал нести и в рамках новых "основных законов" ответственность перед Богом за судьбы русского народа! Никакая власть на земле неспособна была лишить Царя права и снять с него обязанность считать и чувствовать себя высшим арбитром в решениях, требуемых чрезвычайными обстоятельствами. Когда германский император предложил ему для ослабления ответственности за Портсмутский договор передать его на ратификацию Думе, Царь ответил, что ответственность за свои решения несет он перед Богом и историей...
Арбитром, на которого не может быть апелляции, продолжал себя считать Государь и во внутренней гражданской политике. Акт 3 июня 1907 г., которым была нарушена буква "конституции," но которым Россия была выведена из тупика думской неработоспособности, явился плодом именно такого умоначертания Царя. "От Господа Бога вручена нам власть царская над народом нашим, перед Престолом Его мы дадим ответ за судьбы державы Российской," – читаем мы в манифесте 3 июня!
На свою совесть брал иногда Царь и решения в вопросах церковных, и тут не считая себя формально связанным решением Св. Синода. Осведомленный Жевахов говорит, что Царь всего лишь 3 раза проявлял свою самодержавную власть в отношении Синода. Первый – это было в деле прославления св. Иосафа Белгородского, в 1910 году. С нетерпением ожидая назначения торжества прославления, Царь не счёл себя, однако, вправе торопить Синод. Но когда Синод счел необходимым отложить это торжество, то Царь, не согласившись с доводами обер-прокурора и Синода, сам назначил срок его. Второй раз его воля была проявлена в деле прославления св. Иоанна, митрополита Тобольского. Наконец, третий случай связан с назначением митр. Питирима на петербургскую кафедру и с перемещением митр. Владимира в Киев...Гурко приводит случай об отмене Государем предписания Синода о перемещении иеромонаха Илиодора, что произвело тягостное впечатление на митр. Антония. Эти два последних случая, касающиеся личностей, как всегда, в таких вопросах могут вызывать различные мнения и противоречивые оценки.
Что касается роли Царя в деле прославления святых, то надо признать, что в духовном плане, он шел впереди Синода, находившегося под влиянием своего века, с его равнодушием и скептицизмом в делах веры. В частности, отсрочку канонизации митр. Иоанна Синод мотивировал политическими соображениями, – в них уже во всяком случае Царь мог себя считать более компетентным, чем Синод! Значение личности Царя в деле канонизации святых при его царствовании, митр. Антоний Храповицкий характеризовал в 1930 г.:
"Царствование Императора Николая 2-го ознаменовалось открытием в России мощей святых угодников и их прославлением. Насколько в России это дело в последнее время было трудным, видно из того, что после открытия мощей св. Тихона Задонского в 1861г., сопровождавшегося народным энтузиазмом и многими чудесами, по России распространился слух, будто бы Император Александр 2-ой выразился в таком смысле, что это будет последний святой в России. Я не верю, чтобы Государь мог сказать такую фразу, но самый факт распространения такого слуха достаточно характеризует тогдашние общественные настроения. В царствование Государя Николая 2-го были открыты мощи св. Феодосия Черниговского (1896 г.), преп. Серафима Саровского (1903 г.), св. Иосафа Белгородского (1911 г.), Иоанна Тобольского, Анны Кашинской, Питирима Тамбовского. Я помню, как в одном из заседаний Св. Синода один из иерархов заметил, что нельзя же до бесконечности продолжать прославление святых. Взоры присутствующих обратились на меня, и я ответил: "Если мы верим в Бога, то мы должны быть рады прославлению св. угодников." Из этого видно, заканчивает Владыка, насколько велико было благочестие Государя, который почти первый решился на это дело."
Из приведенного материала достаточно разъяснена природа разномыслия и разночувствия между Царем и русским обществом, поскольку тут дело было в различии понимания и оценки существа царской власти и ее прерогативов в России. Но этим мы еще не решили вопроса в целом. Самое существенное еще не сказано! Ведь как мы знаем, это разномыслие с Царем наблюдалось не только среди людей индифферентных к Церкви (не говоря о враждебных), а и между людьми близкими к Церкви, преданными Царю, иногда до последней капли крови!
Тут мы подходим к загадке, которая находит себе разрешение только в позднейших событиях, недоступных для взоров современников эпохи последнего царствования. Мы также подходим к явлениям, на которых люди, даже недалекие от Церкви, наклеивают ярлыки "мистики и мистических настроений" и т.д. Да, Царь, несомненно, был во власти таких настроений, т.е. он способен был видеть и знать то, чего не могли видеть и знать люди духовно менее одаренные и менее живущие духом. И именно та настроенность, которая зрела у Государя в его "мистическом подсознании," делала его относительно равнодушным ко всему тому культурному, экономическому, политическому блеску, который так украшал его царствование и на пользу которого с таким увлечением работали его приближенные, его сотрудники и впереди всех Столыпин.
Нужно, впрочем, сказать, что и Столыпин не вполне был чужд "мистического" ощущения бездны, которая грозила поглотить Россию. Чувство это, в большей или меньшей степени, было присуще чуть ли не всем очень выдающимся русским консерваторам самого разного умственного уклада. Оно лежало в основе того недоверия к положительным результатам гражданского развития страны, которое резко обнаруживалось у Победоносцева и Леонтьева. Оно, в разных дозах, имелось у многих из тех, кто были склонны идти за этими столпами "реакции." Страх этот ощущался ими нередко совершенно инстинктивно, не поддаваясь уразумению и находясь иногда в противоречии с практически принятой ими политической позицией.
Так это было и со Столыпиным. Он своей большой душой интуитивно ощущал неблагополучие, веявшее над Россией, но, как человек практического дела и борьбы, не задумывался над этими предчувствиями, гнал их от себя и продолжал лихорадочно работать в политическом плане. И здесь, конечно, он был не всецело с Государем...
Позиция Столыпина была ясна. Россия зреет для величайшего благоденствия и славы – вернее даже, уже "дозревает" для окончательного вступления в новую блистательную фазу своего мирового существования.. Что ей нужно для этого? Относительно небольшой срок времени, потребный для ее политического перевоспитания. Это перевоспитание при Столыпине наглядно совершалось и завершалось. Россия, с одной стороны, делалась страной мелких собственников, избавлялась от проказы сельской общины и проникалась здоровым сознанием индивидуализма, хозяйственного и правового. С другой стороны, Россия в составе своих имущих классов постепенно приспособлялась и приучалась к сознательной гражданской жизни, основанной на началах разумной свободы. Государственная Дума при всех ее недочетах в этом отношении, в глазах Столыпина, служила прекрасной школой, принося вместе с тем прекрасные плоды и как бы контрольный аппарат над бюрократией. Столыпин верил, что эксцессы, отравлявшие деятельность Думы, постепенно сгладятся, как проявления детской болезни. Он уже и видел положительный успех, в этом отношении достигнутый после акта 3 июня. Незадолго до смерти, он мечтал только о том, чтобы России Бог дал мир еще на несколько лет.
Эта программа Столыпина – в плане, свободном от "мистики," – была абсолютно правильна и совершенно убедительна. Она увлекала его, поглощая всецело его силы. Она была тем идеалом, устремляясь к котором слагалась в России новая политическая идеология. На этой идеологии и вырастала некая новая "Столыпинская" Россия. Но какое-то уже новое место занимал в ней старый русский Царь!
Формально Царь продолжал быть в центре всего. Не только никакой закон не мог получить силу без его утверждения, но и весь правительственный аппарат оставался в его руках. Важнейшие отрасли народной жизни продолжали быть всецело в его единоличном ведении, с устранением представительных учреждений. Церковь и армия жили так, как они жили до первой революции. Но внутренняя связь, соединявшая Царя с Россией, постепенно ослаблялась, сходила на нет. Россия наглядно выходила из-под власти Царя, она все больше тяготилась ею. И чем более осторожным и менее притязательным становилось воздействие на общество этой власти, тем оно раздражительнее относилось к ее проявлениям.
Тут мы подходим еще к одной загадке, раскрытие которой вскрывает постыдный и тягостный факт. Пока Россия жила сознанием своих исконных подневольных обязанностей, стянутая служилой и крепостной неволей, она была внутренне крепка. По мере же того как она вкушала от плода гражданской свободы, она неудержимо утрачивала внутреннюю крепость и делалась жертвой своеволия, анархии и бунтарства. Великая вещь – гражданская свобода! Но она предполагает способность и готовность свободного подчинения. Русские Цари от царствования к царствованию богато одаряли Россию благами гражданской свободы. С необыкновенной последовательностью, настойчивостью и любовью, еще задолго до Александра 2-го, властно насаждали они ее в своей стране, опираясь на тот капитал верноподданнического послушания, который Московская Русь завещала Петербургской России. И они постепенно добились грандиозных результатов. Россия росла, как на дрожжах. Мы уже отмечали громадность ее гражданских успехов. Наступил момент, когда последние остатки крепостничества были упразднены. Это и было делом знаменитой Столыпинской реформы, которая не просто была агротехнической земельной реформой, а означала второе и подлинное освобождение крестьян от уз сословно-крепостной зависимости, с превращением их в равноправных граждан, живущих по общему гражданскому праву, как свободные собственники. Но трагедия была в том, что в глазах "свободной" России Царь не так уж казался нужен. Правда, он и раньше перестал быть нужен для темной массы общинного крестьянства, которых продолжали держать, логике вопреки, на началах устаревшего общинно-передельческого крепостничества. Реформа Столыпина ставила своей прямой задачей создать нового крестьянина- собственника, вместо общинника-передельщика, который ждал от революции черного передела, которого он не дождался и который он изверился получить от Царя.
Но, повторяем, в том-то и была беда, стыд и мрак, которые видны в процессе раскрытия русской исторической загадки, что начало гражданской свободы не уживалось в русском быту с прежним церковнославянским и верноподданическим сознанием. Русская трагедия в том-то и была, что гражданский расцвет покупался ценой отхода русского человека от Царя и от Церкви. Свободная Великая Россия не хотела оставаться Святой Русью! Разумная свобода превращалась и в мозгу и в душе русского человека в высвобождение от духовной дисциплины, в охлаждение к Церкви, в неуважение к Царю...
С гражданским расцветом России Царь становился духовно и психологически лишним. Свободной России он становился ненужным. Уже не было внутренней потребности в нем, внутренней связи с ним. И чем ближе к престолу, чем выше по лестнице культуры, благосостояния, умственного развития – тем разительнее становилась духовная пропасть, раскрывавшаяся между Царем и его подданными. Только этим можно, вообще, объяснить факт той устрашающей пустоты, которая образовалась вокруг Царя с момента революции. Ведь, не забудем, что если акт 17 октября был у Государя вымучен, то буквально вырван был у него акт отречения. При всей своей кротости и незлобии он, как то и раньше бывало по отношению к "крамоле," готов был проявить необходимую крутость. Однако его схватили за руки. Хуже: его просто покинули. Вместо помощи он нашел не только трусость и измену, как он горестно писал своим близким, а нечто худшее. Не трусость и измена диктовали Алексееву и вел. кн. Николаю Николаевичу слова настойчивого убеждения с требованием его отречения. Это было острое проявление того психологического ощущения ненужности Царя, которое охватывало Россию. Каждый имел свое понимание того, что нужно для спасения и благоденствия России. Тут могло быть много и ума, и даже государственной мудрости, но не было того мистического трепета перед Царской властью и религиозной уверенности, что Царь-Помазанник несет с собой благодать Божию, которую нельзя отталкивать и заменять своими домыслами. Этим объясняется еще раньше возникшее дружное сопротивление, вызванное решением Царя лично возглавить армию. Все думали сделать все лучше сами, чем это способно делать Царское правительство! Это, надо сказать, не только о земцах, тяготившихся скромной опекой министерства внутренних дел, не только о кадетах, мечтавших о министерских портфелях, но и об относительно правых общественных делателях, которые входили в прогрессивный блок. Тоже можно сказать и о царских министрах, которые уже очень легко заключали, что они все могут сделать лучше Царя.
Мы сейчас говорим о последних днях России. Но и тогда, когда еще не было на горизонте признака готовящейся беды, ее элементы были налицо. С одной стороны, стоял "Прогресс" России – величественный, не просто материальный и культурный, но и гражданский. Это последнее обстоятельство особенно искажало перспективу. Ведь Столыпин явно справлялся с революцией!... Справлялся не только на полицейском фронте, но и на фронте политическом! Россия мужала, зрела, крепла в своей новой гражданственности.
|