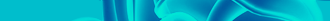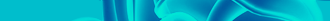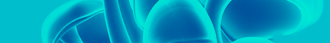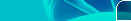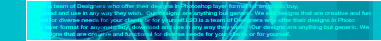ПРОЩАЙ, РОССИЯ!
Лидия Волконская
![]()
Предисловие
Уже кончая эту книгу, я вдруг стала бояться ее. Бояться, что нарушила покой тех, кого уже в этом мире нет, что заставила их говорить вновь, когда-то сказанные ими слова, переживать вновь, когда-то скрываемые ими мысли и чувства, разбудила утихшую их боль, угасшую любовь, страдания...
Да простят они мне это дерзкое вторжение в великое таинство их жизней.
ПРОЩАЙ, РОССИЯ!
ЧАСТЬ I
Глава 1
Первые и лучшие годы
Оттого что было много событий, слишком много для одной человеческой жизни, что бежали они быстро: как в калейдоскопе менялись люди, страны, города, дороги - дороги без конца, и что не было времени или желания задержаться и посмотреть на них; - поэтому теперь, когда я остановилась на одном пункте, словно предлагая мне оглянуться и посмотреть на нее издалека и в первый раз, наверное поэтому прошлое встает так живо и четко, что заставляет меня снова переживать его.
Я родилась в Косейске. Там стоял на раздорожье, наклонясь, посерев от старости и покрывшись глубокими трещинами, высокий деревянный крест. Украшали его маленькие, вышитые крестьянками, переднички. А вокруг креста, как сияние, вибрирует знойный воздух. Солнце так жжет, что Маша, моя старенька няня, защищает меня от него своей тенью, а в узенькой тени креста старается спрятать свою, покрытую чепчиком голову.
- Это бессмертники, они никогда не увядают, - говорит Маша, указывая на полевые, сухие цветочки, желтеющие у подножья креста.
"Какое странное и длинное слово", - думаю я, недоумевая, как это возможно его выговорить... Мне около четырех лет.
Вскоре папа продал Косейск, и мы переехали в Ромейки.
*****
Большой вокзал. Зал ожидания; за рядами высоких окон, расположенных на его двух противоположных стенах, проходят поезда. Столы в зале покрыты белыми скатертями и украшены пальмами. Множество людей входят, выходят, гремят стульями. Шумно. Но мне около папы и мамы за столом, на который нам подают вкусный ужин, не страшно. Вошел человек с блестящими пуговицами и колокольчиком в руке.
- Брянск! Брянск! - закричал он, и колокольчик звонко повторил: "Брянск, брянск, брянск".
В Ромейках мы с Володей, моим на один год младшим братом, вбежали в возовню. Там, на длинном возу, среди огромной кучи упакованных и обвязанных веревками вещей, торчал мой высокий стульчик. Попробовали его вытащить, но на наши головы посыпались какие-то мелкие вещи. А стульчик так мне нужен. На него Маша всегда садит меня за стол так высоко и удобно. Иногда, когда я, гордая этой высотой, восседаю напыжившись на нем, в комнату входит Катька горничная и, став у порога, смотрит на меня ни на минуту не отводя глаз, насмешливо и в упор. Мне от этого становится неловко, я начинаю вертеться, а потом, обиженно оттопырив нижнюю губу, всхлипывать и жаловаться:
- Маша, Маша, она на меня смотрит!
- Ах, ты лупоглазая, что уставилась твоими паскудными глазенками на дитятю! Еще, сохрани Господи, сглазишь мне Лидончика. Убирайся отсюда, убирайся вон! - и Маша, стоя на одном месте, топает ногами, и грозит ей кулаком.
Маша очень любила меня. Мама мало занималась мною, а вырастила и избаловала меня Маша. Она шила мне из тряпок куклы с длинными волосами из прядей льна и разрисованными лицами. Я их любила больше чем покупные. Сказки, которые она мне рассказывала, мешались у нее как-то с действительностью.
- Подожди, Лидончик, подожди. Вот вырастешь ты красавица, приедет князь, привезет сундуки всякого добра. Выйдешь ты за него замуж, а я, в то время уже на другом свете буду Бога молить за тебя, - заканчивала Маша, всхлипывая и вытирая ладонью слезы.
А мне совсем не жалко ее: "на том другом свете может быть еще лучше чем на этом, а мне здесь с князем тоже не плохо будет", думала я.
Володя забавлялся иначе. Раз, когда мы бегали с ним в саду, он так раздразнил большого черного индюка, что тот напал на него, повалил на землю и стал клевать. В ужасе я бросилась домой, забилась в угол за диван и, дрожа всем телом, боялась произнести хоть малейший звук. Потом мне выговаривали, почему я ничего не сказала. От жалости к Володе, стыда и раскаяния, я горько и неутешно плакала. Удивительно, но и потом, всегда так бывало: я в минуту опасности убегала, а Володя оставался и за все отвечал. Было ли это потому, что он не успевал (он был немножко мешковат) или потому, что не боялся и хотел знать, что из этого всего получится; не знаю, вернее последнее.
Когда мы подросли, то стали бегать и дальше, к речке, к лесу, к кошарам, загороженным забором в три жерди. Там бегала летом масса лошадей. Некоторые из них были совсем в диком состоянии. Выждав, когда поблизости никого не было, мы с полными карманами сахару, подбирались к более спокойным и старым. В то время, как одна из них слюнявила своими бархатными губами мою ладонь, Володя ловил ее за гриву и тянул к забору. Подойдя, Володя взбирался на него, а оттуда, с моей помощью, на спину лошади. Вцепившись обеими руками в ее гриву, он колотил ногами о ее бока до тех пор, пока лошадь не начинала бежать. Надо мной он смеялся, так как я боялась проделывать то же самое.
Папа, большой любитель лошадей, привез нам через некоторое время из Москвы с выставки два детских седла. Володе мужское маленькое, а мне дамское. Седлал мою "Белоножку" наш главный кучер Юрко. Он сам подводил ее к крыльцу, проверял еще раз хорошо ли натянуты подпруги, подставлял мне руку, я становилась на нее ногой, а другую сразу же закидывала на седло, цепляясь ею за луки. Володя вскарабкивался всегда сам. Выехав и отдалившись от усадьбы, мы, несмотря на все запреты и угрозы, пускали лошадей во весь галоп, так что только ветер свистал в ушах да трепал гривы лошадей и мои, распустившиеся, волосы. Я часто перегоняла Володю, что доставляло мне большое удовольствие, так как во всем другом я не могла с ним сравняться. Мы жили, росли, часто играли вместе, но все у нас выходило как-то по-разному. Зато какая была радость, когда мама нашла под капустой мне сестренку, а то я почти всегда была одна. С дворовыми мне строго запрещали играть: они говорили нехорошие слова, а раз даже научили меня сказать маме неправду.
Однажды, после только что прошедшего над Ромейками дождя, мы с Володей, удрав от француженки и сняв сандальи, бегали по стекавшим ручейкам и лужам дороги, брызгая с наслаждением во все стороны водой.
- Удирай, удирай, скорее! - вдруг закричал Володя, - кто-то едет! - Нырнув в кусты и заглядывая из-под них, мы увидели четверик наших лошадей, запряженных по обыкновению в ряд, как в колеснице, Юрко высоко на козлах, а в экипаже какую-то даму в шляпке. Не знали мы тогда, что кончилось наше привольное детство.
Дама эта, Марья Ивановна, наша дальняя родственница была классной дамой в Мариинском училище. Все лето она подготовляла нас к экзаменам, а осенью забрала с собою меня в Мариинское, а Володю в мужскую гимназию, находившуюся в том же городе. После свободного простора Ромеек, Мариинское показалось мне чем-то чуждым, угнетающим.
![]()
Мариинское
Устланный камнями, квадратный двор окружен с трех сторон стенами огромного, построенного как каре здания. Длинные ряды окон смотрят со стен на этот двор. В нем, как в клетке, заключено много таких девочек как я. Они разговаривают, смеются, рассматривают пестрый узор ковровых цветов покрывающий круглую, большую клумбу посреди двора. Однако они не совсем похожи на меня. Девочки эти наверное городские, не из таких Ромеек, как наши. Они беленькие, уверенные в себе, не такие дикие как я, не стесняются, оглядывают друг друга критически.
"Хоть бы на меня не посмотрели" думаю я. У меня волосы растрепаны, туфли зашнурованы не в ту дырку, с платьем тоже, кажется, что-то не в порядке. Я не умею одеться без Маши. Сконфуженно я жмусь в стороне, пугливо оглядываясь, куда бы спрятаться.
- Ты чтож такая черная? - вдруг, откуда не возьмись, послышался надо мною голос девочки уже постарше.
- Неужели ты так загорела? - удивляется она, - уж не арабченок ли ты? С африканских джунглей, что ли приехала сюда?
Растерявшись, я чуть не плачу. К счастью звонок. Все заторопились по классам. В длинном коридоре множество дверей. Девочки разошлись. Я одна не знаю, где мой класс. Какая-то классная дама указала мне его и успокоила. После урока звонок, потом опять и опять. Целый день звонки за звонками. Все время разделено ими по часам, по минутам.
После уроков, перед обедом, прогулка в сад. Длинная аллея из прозрачных ясеней делит его пополам. Много дорожек, тенистых уголков, кустов сирени и жасмина. В конце сада оранжереи и фруктовые деревья. Сад и вся усадьба обнесена высокой каменной стеной с острым, битым стеклом на верхушке. Позднее я узнала что ничто из потустороннего мира через эту стену внутрь никогда не проникало.
Вечером ученицы в классах приготовляют уроки на следующий день. Уже спокойнее, звонков меньше. Последний на вечернюю молитву. В большой зале, с двумя рядами колон, полумрак. Освещенная тихим светом лампадки, выступает в углу большая икона Божьей Матери. Девочки стоят, выпрямившись, правильными рядами. Каждый класс образует отдельный прямоугольник. Впереди младшие, за ними старшие. Все хором поют: "Под Твою милость прибегаем"...
В спальне моя кровать почти в начале бесконечного ряда других. Зарывшись с головой под одеяло, носом в подушку, задыхаясь от слез, беззвучно шепчу: Маша! Маша! И так каждый вечер.
- И что это ты все плачешь? - спустя три-четыре вечера услышала я над собой, - не плачь, а то и я буду.
Наклонясь, около меня стояла девочка с соседней кровати.
- Домой хочу, - всхлипывала я.
- А где твой дом? - участливо спросила она.
- В Ромейках.
- Ну не плачь, завтра я тебе покажу что-то, когда пойдем гулять в сад.
Так началось знакомство с первою моею подругой Ксенией. Потом у меня их было много, но эта осталась навсегда самой близкой. И все же первое время я до того тосковала, что перестала есть, похудела и так кашляла, что в виде исключения, меня на три дня отпустили домой. Это совпало с каким-то праздником. В Ромейках я почувствовала себя, как рыба, долгое время задыхавшаяся на берегу и, наконец, попавшая опять в воду.
После этой передышки все в Мариинском показалось мне лучше. Обстановка была уже известна, девочки знакомы, и до Рождества было не далеко. Рождество, Пасху и три месяца летних каникул мы проводили в Ромейках. С каким нетерпением вычислялись недели, дни, часы, оставшиеся до этого времени. Наконец - РОСПУСК!!! - писалось огромными буквами на классной доске. Марья Ивановна усаживала меня и Володю (время нашего роспуска совпадало) в поезд, который без пересадки шел в Антоновку, нашу станцию.
Приезжали туда ранним утром. Выйдя из вагона, мы стремглав бежали к подъезду, где уже стояли у ступенек, с трудом сдерживаемые Юрком, наши лошади, нетерпеливо гребя копытами снег.
Юрко и Данило, его сын, закутывали нас в шубы. Володю в папину соболью шинель, меня в мамину, на черном пушистом меху. На ноги еще клали волчью полость. Края ее Данило старательно подворачивал, чтобы не поддувало. Выехав из окружающего станцию леса, мы с замирающим сердцем искали глазами уже оттуда, за десять верст, видневшиеся верхушки ромейских пирамидальных тополей.
- Юрко, что это мы так медленно едем? Нельзя ли поскорее? - спрашивала я, сгорая от нетерпения.
- Никак нельзя, барышня. Ночью снег выпал. Дорога еще непроезженна, вишь какие сугробы намело.
|