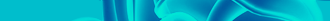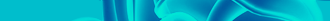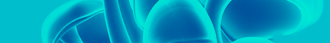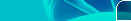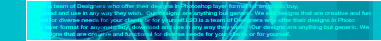И действительно, окутанные облаками пара, лошади фыркают от попадающего им в ноздри снега и с трудом вытаскивают из него вязнущие выше колен ноги. Ближе к деревне, дорога более проезжена, а в ней и совсем гладкая. Полозья легко скользят, посвистывая, но быстро тоже не поедешь. То там, то сям скрипят ворота, и бабы, перекинув через плечи коромысла и ловко балансируя висячими на них ведрами, перебегают улицу. В деревне повеяло теплом и духом печного хлеба. У обледенелых колодцев топчутся в недоумении гуси, словно стараясь выдавить изо льда воду и обогреться в еще косых лучах, подымающегося солнца. Тявкают собаки, горланят петухи. Над крышами из труб вьется к небу тоненькими веревочками дым.
За деревней Сворыни надо переехать мост через речку, высокий, длинный и опасный. В нем много дыр от прогнивших бревен, а целые подымаются и опускаются, как клавиши у рояля. Лошади, проходя по мосту, испуганно перебирают ногами, жмутся друг к другу, косясь на неогороженные перилами края его. За мостом еще поле, потому уже наша роща, дуб на краю дороги и, наконец, приехали!
На крыльцо выбегают горничные, вытаскивают нас из саней и еще закутанных в шубы вносят в переднюю. Какое блаженство - мы дома! В передней тепло, уютно. Дверцы у печки стучат от жарко пылающего за ними огня. Маша моя со слезами радости:
- Лидончик мой, светик мой ясный! Выросла то как, выросла. Дождалась я тебя. Думала, не увижу больше. Все хворала.
В столовой папа и мама оглядывают нас с заботливой нежностью и, целуя, спрашивают:
- Ну как доехали, спали в поезде, не замерзли? Чаю, скорее чаю, согрейтесь.
На наших стульчиках Леля и Маруся наши сестренки, мы с Володей перешли уже на большие. Оглядываемся. Все по-прежнему, все так же. На столе кремовая скатерка, Машины булочки, самовар, мирно напевая, кипит попыхивая паром. На стене часы, они тикнув, задержатся перед тем как отбить время, словно задумавшись о прошлом и чего-то ожидая от наступающего. За стеклом буфета тот же пузатый графинчик, обставленный рюмочками, папин серебряный подстаканник, сахарница, - все на месте, все так, как будто вчера только мы вышли, отсюда.
После чая обегаем весь дом, наслаждаясь его видом, проверяя и там все ли так, как мы это помнили. Заглянули и в альбом в гостиной на столе. В нем папа рисует, в длинные зимние вечера наши портреты. Все как живые. Мама даже красивее, чем на самом деле. Ее большие серые глаза немного грустны. В них мерцает, прячась от посторонних, тихий, углубленный в себя и неразгаданный свет. Портрет Володи не особенно удался. Он выглядит насупленным, как бы о чем-то глубоко размышляет. А у меня глаза черные, как уголь, с белыми точками. От этого они кажутся блестящими. Очень похоже.
В папиной рабочей комнате стружки около столярного станка. Он опять что-то мастерит. Папа всегда выдумывает новые вещи, каких нигде нет. Так в прошлом году он сделал маслобойку. В ней масло сбивается скорее и легче, чем в обыкновенных. На письменном столе у папы по-прежнему листы бумаги заполненные рисунками и цифрами. Это проект картофелекопательной машины. Над ее изобретением он давно уже работает, но никак не может добиться желаемого результата. Там же на столе газета "Киевлянин" и целая кипа, за несколько лет, журнала "Сельский Хозяин". Папа его читает, стараясь пополнить пробел в его знаниях по агрономии.
Здесь я хочу рассказать поподробнее о моем отце.
Александр Рыбников
Он принадлежал к числу крупных помещиков. Довольно высокого роста, худощавый, с длинной бородою, с открытым, чистым лбом и с большими пивного цвета глазами, смотревшими с кротким доверием на окружающий мир, папа по внешнему виду походил на изображения библейских угодников со стен древних церквей.
По натуре же он был жизнерадостный, легкомысленный, любил веселую жизнь, людей. Своею особенною деликатностью, мягкостью и застенчиво-сдержанными манерами, он ясно отражал главную черту его характера - благородство. Папа был неделовой, хотя ни сам себе и никому другому он в этом признаться не хотел. Евреи называли его "наш батько", явно злоупотребляя его великодушием. В торговых делах с ними он, казалось, больше заботился об их выгоде, чем о своей. Часто, когда их выгода была слишком высокой, а его убыток пропорционально низок, он в утешение себе и в оправдание им говорил:
- Надо же и им что-то заработать. Они ведь с этого живут.
То же самое было и с мужиками. Подловит его где-либо, мужичок и начинает:
- Барин, я к тебе как к отцу родному, да боюсь и сказать.
- Ну, что там у тебя, голубчик, говори, - одобряет его папа.
- Не гневайся, заехал это я давеча в лес, да дровец малость нарубал, а лесники и поймали. Правляющий в суд хочет подать, - жалобно говорил мужик:
- Нехорошо брат, нехорошо. Ничего не могу сделать. Сам посуди, если каждый из вас будет ездить в лес да рубить сколько ему захочется, то от леса ничего не останется.
- Барин, больше не поеду. Ей Богу, не поеду, вишь детки малые, в хате нечем топить, плачут.
- Эх ты, незадачливый какой. Ну ладно, на этот раз прощу. Но смотри, чтобы больше этого не повторялось, а то плохо будет.
- Спасибо, отец родной, спасибо и провались я на этом месте, коли еще раз пойду.
- Ну хорошо, хорошо, - и папа, писал записку управляющему прекратить дело.
- Александр Рафаилович, что это вы делаете! - говорил прибегая управляющий, - мужик этот заведомый вор и пьяница. Дрова он-то завез не себе, а в кабак за водку, а вы поощряете. Лучше в дела с мужиками уж не вмешивайтесь, пожалуйста.
Но если папа что-то пообещал, то кончено. Своего слова он никогда не нарушит. Но зато, если мужик рассердит его дерзостью требования, или явным обманом, то папа, вспылив, без лишних слов с горящими гневом глазами, хватает его за шиворот и пинками выставляет вон за двери, приговаривая:
- Вон мерзавец, вон подлец! Чтоб твоего духу здесь больше не было!
После этого папа долго ходит, все ходит, кряхтит, ни на кого не смотрит. А мужики, почесывая затылки, говорят:
- Это уж какая планида на него найдет.
По образованию папа был математик. Но попал он на этот факультет, вероятно, по недоразумению, так как сухая математика не вязалась с его увлекающейся, артистическою натурою. Из университета он вынес не столько знаний по математике, сколько идей либеральных и вольнолюбивых. Не перенося мысли о каком-либо вмешательстве государственной власти в частную жизнь человека, он, несмотря на свой патриотизм, шутливо называл себя анархистом. За год до окончания он вышел из университета, женился по любви и навсегда засел в деревне.
Вдали от культурной жизни и людей, он сильно затосковал и даже начал попивать, но скоро бросил и увлекся идеей перестройки Ромеек на коммерческий лад.
Предприятия его часто принимали неожиданные обороты. Так показалось папе, что Ромейки подходящее место для рыбного хозяйства. По собственным чертежам и вычислениям, он соорудил целую серию прудов, соединенных плотинами, канавами, насыпями. На одном пруду даже поставил нам купальню. Купил мальков и рыбы - карпы королевские развелись и кишели в прудах. Мужики их потихоньку подлавливали но это делу не мешало. Нам они надоели до отвращения, а сбывать рыбу было некуда. В ближайших маленьких местечках потребителей было так мало, что отправка туда не оплачивалась. Единственным местом сбыта мог быть город Ковель, но лежал он в ста верстах от Ромеек, доставка туда требовалась систематическая, в большом количестве и по железной дороге. Это было сложно, дорого, а папино рыбное хозяйство до такого уровня и порядка еще не дошло. Дело откладывалось, пока одной зимой мороз хватил такой, что вся вода в сравнительно неглубоких прудах замерзла, а с нею и все карпы. Бедный наш папа, не имея опыта, не мог всего предвидеть.
Но не все дела так печально оканчивались. Одно время, папа целыми днями, до изнеможения ходил по полям и болотам с землемерною целью и инструментами. По выработанному им плану целой сети каналов в Ромейках была произведена осушка всех земель. Это весьма расширило пахотную площадь и высоко подняло стоимость имения.
Но больше всего и всю жизнь папа увлекался лошадьми. Он мечтал вывести какую-то свою, особенно быструю породу их. Одно время развел лошадей целые табуны, так что трудно было за всеми ими усмотреть. Часто молодые лошади были в диком состоянии, бегая целое лето в кошарах, а зимой стояли без проездок и пользы в конюшнях. Трудно верить до чего иногда доходило.
Жеребцы предназначенные нам для выездов, застаивались без тренировки в конюшнях целыми неделями. Запрягать их было трудным и рискованным предприятием. Особенно когда запрягался четверика в ряд. Каждая лошадь выводилась под уздцы двумя кучерами. Выйдя на двор после долгого заточения, жеребцы с пеной у рта дико поводили глазами, и подымаясь на дыбы, вырывались из рук. После долгих усилий, каким-то чудом, все четверо впрягались, но каждого все еще держало под уздцы двое человек. Бесстрашный Юрко влезал на козлы и по данному сигналу, люди отскакивали в сторону. Четверик, взвившись на дыбы, бросался вперед и бешено мчался пока не налетал на какой-нибудь столб, стенку, дерево. Дышло сломано, повозка перевернута, Юрко кубарем волочится по земле, не выпуская вожжей, стараясь удержать на них вырывающихся лошадей. Подбегают люди, хватают удержанных Юрком и ловят убежавших. Опять запрягают, и опять то же самое. Пробы эти продолжаются до тех пор, пока лошади выдохнутся и успокоятся. Тогда их впрягают в новый, еще не поломанный, экипаж и подают к крыльцу нам для выезда.
- Вот не умеют они обращаться с лошадьми. Лошадь - это благороднейшее животное на свете. Они, как дети. К ним надо подходить с лаской и любовью, а не штургать, - говорил при этом с досадой папа.
Он лично вытренировал своего любимца "Разбойника", родоначальника нескольких поколений "Разбойников".
Папа сам любил править лошадьми и иногда предлагал повезти нас покататься, особенно зимой на санях.
Когда разогнав лошадей во всю мочь, он, на слегка натянутых вожжах, въезжал в деревню, там уже знали.
- Барин едет!
Всеобщая паника. Вопит хор собак. Неистово кричат куры, хлопают крылья, летят перья. Дети жмутся к стенкам хат. Мужики качают головами, а папа, ничего не замечая, кричит:
- Смотрите, вы только посмотрите! Вот разошлись, вот идут! Эх, милые!... и мы летим, летим, летим. Борода папы развевается на обе стороны, мелькают хаты, комья снега, хвосты коней, визжат полозья, ветер бьет в лицо.
|