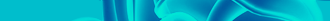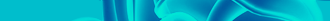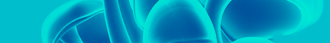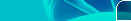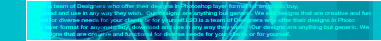*****
Был 1905-ый год. В один осенний вечер мы с Володей, лежа около папы на диване, слушали, как он читал нам не сказки, а роман Сенкевича, "Огнем и Мечом".
- Барин, клуня горит! - крикнула появляясь горничная.
На дворе, когда мы выбежали, было видно как днем. Мне показалось, что горит флигель. Его широкие окна пылали отблеском огня, горевшей вдалеке клуни.
Сначала можно было подумать, что это был несчастный случай, но, когда начали гореть одна за другой скирды на полях, стало ясно, что эти пожары были делом рук мужиков.
Недели две спустя наш управляющий, сидя при зажженной лампе у окна, выплачивал рабочим деньги. Кто-то, спрятанный в их толпе, выстрелил в него из охотничьего ружья. К счастью, дробь рассыпалась, только слегка, царапнув его голову.
- И к чему все это идет? Что это будет? - тревожно говорил папа, как и все тогда в России.
Это было время, когда, как предвестники, по всей стране пробегали волны восстания.
*****
Первое время, каждый отъезд в Мариинское я переживала как настоящее горе. Несколько ночей перед этим я спала тревожно, часто просыпалась с испугом: "Может быть уже, не сейчас ли?" и плакала.
В день отъезда вставали до рассвета. Это действовало особенно удручающе. Я просыпалась раньше и лежа чутко прислушивалась к бою часов и к звукам пробуждающейся жизни в темном, погруженном в сон доме.
Сначала где-то стукнет дверь, потом все затихает. Вскоре в кухне послышится движение; Затем в столовой кто-то передвинет стул, зазвенит посуда, забренчит выдвигаемый из буфета ящик, и через несколько минут из спальни родителей донесется тихий говор. По моему телу пробежит дрожь, как от холода. Оно и холодно на дворе, почти слышится, как за окном трещит мороз. Спустя некоторое время, через мою комнату тихо пройдет папа. Милое лицо его освещено снизу дрожащими бликами свечи, которую он осторожно несет в закапанном стеарином подсвечнике. В столовой он что-то скажет горничной, наверное о лошадях, хотя распоряжения Юрку уже даны с вечера. Я лежу свернувшись калачом, как будто бы сплю или, как будто бы меня нет. В столовой становится шумней. Громко бурлит самовар и в мою комнату горничная вносит зажженную лампу.
- Вставайте, барышня, пора, чай готов.
С нами в Антоновку едет мама, чтобы усадить в поезд. На дворе так жутко и темно. Лампа, поставленная на окно в передней, освещает откинутую в санях полость, спину Юрка в кожухе, крупы лошадей, их завязанные узлами хвосты.
Папа, сойдя с крыльца, обходит вокруг сани, проверяя, хорошо ли мы уселись, поправляет полость на наших ногах и, отступив, говорит:
- Ну, с Богом, трогай, Юрко! - и вдогонку добавляет: - Смотри, осторожно на своринском мосту!
В вагоне я стою, тыкая носом в стекло окна и гляжу, не отрывая глаз, на маму. "Надо удержать ее в памяти" - думаю я, "надолго, навсегда, вот так как она стоит сейчас и рассеяно слушает, что-то ей говорящего, начальника станции". На платформе пусто, только ветер гонит редкие снежинки да рвет с плеч мамы длинное, пушистое боа. Третий звонок и мама, не шевелясь, начинает медленно отодвигаться назад. Еще раз мелькнул кончик ее боа, и снежинки быстрее закружились за окном.
*****
После возвращения с каникул, я первым делом, как и каждая ученица, должна была отправиться в бельевую. Там все переодевались во все казенное. Эта внешняя перемена всего нашего вида вполне соответствовала перемене внутренней, происходившей в нас благодаря коренному изменению всего образа нашей жизни.
Выдавалось нам все, начиная с форменного платья, пальто, шапочки, ботинок, белья, кончая носовыми платками, гребнем, зубной щеткой. Своего ничего не позволялось иметь. Наша казенная одежда была весьма необыкновенного фасона. Юбка форменного платья у пояса спереди была гладкая, а сзади собранная. Длиной она доходила почти до пола. Лиф с длинными узкими рукавами, плотно обтягивал стан. Стоячий воротничок, подходивший к самому подбородку, был туго накрахмален и немилосердно резал шею. Ботинки были почти мужского фасона с ушками и резинками по бокам. Над нашим, несоответствующим моде, видом подсмеивались. Но мы были горды и своею формою и своим училищем.
Надо отметить, что Мариинское училище было, почти единственно в своем роде среди других закрытых учебных заведений России. Основано оно было в Холме - главном городе области, хоть и находившейся в "Привисленском краю" (Польша), но населенном русскими. Целью Мариинского было насаждение и поддержание там русской культуры и быта. В этом направлении воспитывались девочки, будущие матери новых поколений.
Годы проведенные в старших классах Мариинского, кажутся мне самою счастливою порою моей жизни. Никогда потом не жилось так беззаботно, никогда не имелось таких близких и искренних подруг как там. А в рамках строгой дисциплины, порядка и организованного умственного труда ощущалось, хоть и бессознательно, большое удовлетворение.
Я начала хорошо учиться. Даже преподавательница немецкого языка была довольна мною; а она отличалась не только строгостью, но и требованием чисто немецкой аккуратности. Тетрадка немецкая должна была быть обернута в светло серую бумагу; на ней на ленточке приклеивалась промокательная, и не дай Бог, чтобы где-либо была клякса, или даже черточка или точка поставленная не на положенном месте. Вначале каждого урока наша преподавательница взойдет на кафедру, обведет класс испытующим взглядом и сразу же увидит, кто не выучил урока.
- А ну, фрейлен Рыбникова, коммен зи хир битте, - и начинает спрашивать не только заданный урок, но и слова и грамматику и все, от начала до конца.
В младших классах я так боялась этих вызовов к доске, что, как бы хорошо я не выучила урока, от страха на меня какое-то затемнение находило, и я ничего не могла ответить. Все эти трудности я в старших классах преодолела. Хромала только немного по математике. Но зато по русскому языку я вышла на первое место. По-моему, причиной этого было мое увлечение преподавателем этого предмета.
- Господа, послушайте, что я узнала от Марии Ивановны во время каникул. К нам назначен новый учитель русского языка. Он только что окончил университет и волнуется, как мы его примем. Подумайте! Как он будет бедный стесняться, один среди нас всех. Давайте поддержим его. Сделаем вид что он нам очень нравится. Все равно какой он там. Согласны? - говорила я, волнуясь, моим подругам в первый день, после возвращения с каникул.
- Конечно, конечно, - хором отвечали они, заразившись мои увлечением. - Встретим его приветливо, будем улыбаться, чтобы он понял, как мы хорошо к нему относимся. Он наверное, наверное, "душка".
- Да, я тоже так думаю. Вот интересно, - все больше увлекаясь, восклицала я.
Новый учитель оказался жгучий брюнет, довольно высокий и тонкий с большими черными глазами и не такой робкий, как мы себе его представляли. Глазами своими он очень гордился и кокетничал. Во время урока, вдруг ни с того, ни с сего прервет речь, станет в позу и, поглядывая на учениц, начинает не то, чтобы вращать глазами, а как-то странно заставляет глаза мелко, мелко дрожать, отчего они словно бы искрились. От этого мне всегда делалось неловко и стыдно за него, и я даже не могла смотреть; Мне почему-то вспоминались глаза наших ромейских жеребцов, когда их выводили под уздцы из конюшни. Несмотря на это, я упрямо продолжала внушать себе и другим, что он "душка", и что мне очень нравится.
- Лида, ты знаешь как все в Мариинском называют Ипполита Викторовича? - спросила меня Ксеня.
- Нет, не знаю, а как?
- "Карандашик", - ответила она.
- Что-о-о? - возмутилась я, - как тебе не стыдно повторять глупые прозвища. Забыла что ли, как мы обещали к нему относиться? А они пусть лучше на себя посмотрят: они-то какие красавицы!
Через месяц Ипполит Викторович задал нам классную письменную работу. Разбирали Карамзина: "О любви к Отечеству и Народной гордости". Я расписалась на десяти страницах.
Соразмерно с моим прогрессом в русском языке, прогрессировало и мое увлечение его преподавателем.
Часто у нас устраивались "музыкально-вокально-литературные" вечера. На них ученицы декламировали, пели, играли на рояле. Ставились отдельные сценки из Гоголя, Басни Крылова. Вечера эти обставлялись парадно.
Ученицы, переодевшись в новые форменные платья, в белоснежные переднички и пелеринки, выстраивались, (как и всегда при входе в столовую или залу), парами вдоль всего коридора. Классные дамы внимательно оглядывали: блестят ли ботинки, чисты ли уши и ногти, гладко ли причесаны волосы. Никаких завивок, взбитых причесок и бантиков не позволялось.
После проверки входили парами в ярко освещенный зал. Он и сцена, устроенная в конце его, были украшены пальмами, олеандрами, и цветами из оранжерей. Через всю залу протягивался широкий ковер. В передних рядах сидели почетные гости. Им подносились в разрисованных обложках программы. Многие из них рисовала я, так как была одна из лучших по рисованию. Наиболее старательно нарисованную я, перевязав ее широкою лентою, подготовляла украдкою Ипполиту Викторовичу.
Чувствуя себя смелее, в парадном виде, и с запрещенным бантиком в волосах я, подавляя робость, поджидала своего кумира у входа в зал. При его появлении вытягивала, спрятанную под пелеринкою, программу, и молча подносила ему, приседая в глубоком реверансе.
- Как хорошо нарисована, и особенно красивы глаза у этой головки. Они будут всегда мне напоминать другие, - сказал однажды, лукаво улыбаясь, напрасно стараясь заглянуть в мои, прикрытые опущенными ресницами, глаза.
Этого было достаточно, чтобы придать моему "обожанию" еще более сильные и уверенные формы.
Вечерами в кровати, я, сгорая от стыда, воображала себя с ним в разных романтических сценах, похожих на вычитанные в романах. "Вот я иду легкой походкой, как Наташа Ростова, по дорожке сада. С обеих сторон ее благоухает сирень. Ночь, луна, соловей - все как полагается. За моими плечами развевается, как крылья, небрежно накинутый газовый шарф. Быстро мелькая, я то исчезаю в тени кустов, то выступаю в промежутках между ними, как видение, облитая лунным светом. И вдруг - Ах! - на перекрестке дорожек сталкиваюсь со всей силы с "ним" и прямо попадаю в его объятия...
"Пустите", шепчу. А сама совсем не хочу, чтоб он отпустил меня. Он и не пускает, а притягивает ближе к себе и я чувствую его губы на моих... Задыхаясь от блаженства, открываю глаза. В длинной, полутемной спальне - тишина. Только под потолком светится, затемненная абажуром, ночная лампа. Подруги мои давно и спокойно спят. "Боже мой! если бы они знали, как я развратна - думаю я, - но нет, никогда и никто на свете этого не узнают".
Успокоенная, я поворачиваюсь на другой бок и, мечтательно улыбаясь, засыпаю. На другой день не смею поднять глаза на "него", наконец решившись, думаю: "нет, не такой, как я воображала, а все же душка!"
Самым интересным днем в году был престольный праздник нашей Варваринской церкви, 4-го декабря. Я особенно любила вечернюю службу в церкви. Свечи горели не только у икон, но и на карнизе под куполом, вокруг все церкви.
Священник просто и проникновенно читает молитвы. В ответ ему церковь наполняется пением, скрытого вверху за балюстрадой, хора. Торжественно и дивно звучит, то подымаясь вверх к небесам, то опускаясь вниз к земле, "Отче Наш" Архангельского. Служба долгая. Под конец чувствуется усталость. Хор также, словно утомившись, поет все тише и тише: "Свете тихий, Святые Славы"... Свечи догорают и чувство мира, спокойствия и дремоты предстоящей ночи охватывает всех.
Утром архиерейская служба. Совсем иная - величавая, символическая.
Днем большой обед. Гусь жаренный, конфеты, мороженое. Вечером бал для старших классов. Сколько волнения, беспокойства.
- Ксеня, завяжи мне сзади бант от передника.
- Шура, у тебя есть пудра? Я тебе дам духов. Подержи два пальца, я завяжу на них бантик.
- Да зачем он тебе, ведь нельзя же.
- А я спрячу под пелеринку, а после осмотра приколю.
Входим парами в зал. Вдоль стен стулья. Все рассаживаются, а мы с Шурой не хотим. Стали у колонны и дальше ни шагу.
- Что вы стоите, идемте, сядем, вот прилипли к колонне, - тянут нас подруги.
- Не пойдем, - шепчем мы.
- Почему же, что будете здесь стоять так?
- Да, лучше будем стоять, чем там сидеть под стенкой, как на выставке.
Между тем военный оркестр уже играл штраусовский вальс, и молодые люди стали подходить и приглашать. Неожиданно, я увидела молодого человека, который решительными шагами направлялся в нашу сторону. "Не может быть, чтоб это он ко мне", испуганно подумала я. Шура красивее, у нее нос ровный, а у меня курносый... Ах!... Он поклонился мне и ждет.
Шура подтолкнула меня сзади, и вот я закружилась с ним по скользкому паркету. Первый раз в жизни мужская рука обхватывала мою талию, а другая сжимала мою.
- Вы первый раз на балу, в каком вы классе? - спрашивает он.
Мое же внимание было сосредоточено на одном: чтобы как-нибудь по неосторожности или по другому чему-то, он не притянул бы к себе поближе. Ученицы старших классов нас предупреждали, что на прошлом балу один так прижал к себе Тамару, нашу красавицу, что она чуть не расплакалась и, хотя не была виновата, но после этого многие в Мариинском ее долгое время "презирали".
Вальс кончился и мой кавалер отвел меня на место и, поклонившись, ушел. Взволнованная, я схватила Шуру за руку и потащила ее вон из залы.
- Ах, Шурочка, если бы ты знала, как я стеснялась, как я стеснялась: в голове кружилось и все кругом крутилось, почему не знаю. Он... Он... Что он обо мне подумал, только он больше наверное меня не пригласит... Идем лучше, идем отсюда.
- Да идем, я тоже не хочу здесь больше оставаться, - обиженно согласилась со мной Шура, - пойдем лучше в буфетную. Там по крайней мере есть бутерброды, пирожные и мороженое есть.
Для успокоения и утешения мы, проглотив несколько пирожных, уселись с ней на диванчике в одном из классов, превращенных в гостиные.
- А ты танцевала? - спросила я.
- Нет. Кругом подходили, приглашали, а я и глаза боялась поднять. Думала, если посмотрю, то кавалер подумает, что я напрашиваюсь и умираю от желания танцевать с ним. У меня тоже свое самолюбие есть, как по-твоему?
- Лида, Шура, куда вы исчезли? - сказала, входя Ксеня. - Вас там кавалеры спрашивают, идем в зал.
- Не пойдем. Сидеть там под стенкою, как куклы в лавке... Нет! Если кто хочет, то может и сюда прийти. Вот и все, - заявили мы.
Это было так убедительно, что Ксеня и другие присоединились к нам. Никто из нашей компании в залу под стенку не ходил, а кавалеры должны были нас отыскивать в гостиных.
Последняя весна в Мариинском. Хотя она и в полном расцвете, но для нас мучительная, и мы ее не замечаем: экзамены на аттестат зрелости.
Все мы, выпускные, поодиночке рассеяны по самым укромным уголкам: в нишах окон, в глухих, отдаленных коридорах, в густой траве сада. Каждая, напрягая все силы, старается в три-четыре дня, данные на подготовку к каждому предмету, повторить весь его курс. Девочки других классов, глядя на нас с уважением и сочувствием, шепчут "выпускные".
В зале с наглухо закрытыми окнами, расставлены далеко одна от другой скамейки. В конце залы стол, покрытый зеленым сукном. За ним целый синедрион учителей во главе с начальницей похожей, как мне казалось, на Екатерину Великую.
После письменных экзаменов скамейки убираются и от этого тишина пустой залы становится еще более гнетущей и торжественной.
Когда, подавляя волнение, я шествовала через всю длину пустой залы, направляясь к зеленому столу, кто-то открыл окно.
Победоносно, радостно ворвался в зал громкий шум весны и я, нехотя глубоко вдохнула свежую, живительную струю воздуха, и почему-то сразу подумала: "Сейчас провалюсь, алгебра - мой самый слабый предмет"... И действительно, напрасно я стараюсь удержать, куда-то улетающие мысли. В голове, пусто, как метлой вымело. Испуганно молчу.
- Рыбникова, что с вами? - вспомните, ведь я еще вчера объяснял вам эту формулу, - прозвучал, словно издалека, голос Ипполита Викторовича.
- Ах, да, помню! - начинаю выводить формулу: - ...равняется, корень квадратный.
"Странно", мелькает вдруг мысль, как это "он" мог угадать, что я именно этот билет вытяну. Вчера вечером неожиданно зашел к нам в класс и объяснил эту формулу... продолжаю... - равняется - x в... "а, дальше что? И что это все значит?" Останавливаюсь, тупо глядя на доску, как бы в первый раз увидела и подумала о значении всех этих знаков и цифр.
- Да, ведь, вы уже столько раз это делали и знали, подумайте, - говорит учитель математики. Все сочувственно стараются навести меня на мысль, даже подсказывают, но от этого я еще больше теряюсь. Бездумно, безнадежно стою я у доски, кроша дрожащими пальцами мел, опадающий мелкими кусочками на паркетный пол.
Потом, при торжественном вручении аттестата мне сказали:
- Ваше сочинение по русскому языку было очень хорошо написано. Мы отослали его, как образцовое, в округ. Если бы не ваш провал по устной алгебре, то вы, окончили бы по крайней мере с серебряной медалью. Нам очень жаль.
А мне было все равно. Печально думала я, что никогда больше не увижу Ипполита Викторовича. Уезжая, одна из последних, я с болью в сердце оглянулась на знакомые ряды окон, за которыми прошли первые и лучшие годы моей юности.
|