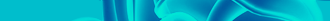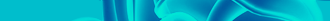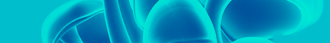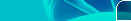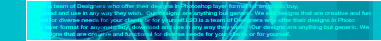Возражение, что по пути Иванова на Витебск не стояло обычно военной охраны, необходимой для проезда царских поездов, а потому нас направили по другому, заранее намеченному пути, еще менее основательно.
Иванов мог и должен был следовать тогда по нашему пути через Бологое, Тосно, где должна была бы уже стоять по своим местам охрана. Ведь именно на его отряд была возложена обязанность пробивать нам дорогу, если бы ее кто-либо преградил.
Сам Иванов говорил мне, что он был убежден, что благодаря тому, что следуем за ним, спокойно доедем до Царского Села…
Проходя в свое купе, я зашел в отделение профессора Федорова, где были и другие мои сослуживцы.
Из наших разговоров наконец выяснилось, что такой внезапный отъезд вызван был сильным беспокойством государя за императрицу и больную семью, так как Царское Село с утра было уже охвачено волнением, и пребывание там было небезопасно.
Государыня через графа Бенкендорфа, обер-гофмаршала, спрашивала у государя по телефону совета, как ей лучше поступить: переехать немедленно с больными детьми для пребывания вместе с государем в Могилев или лишь выехать нам навстречу, чтобы соединиться где-нибудь в пути, но после вечерних переговоров графа Фредерикса с государем было решено, чтобы вся царская семья до прибытия генерала Иванова, а затем и нас оставалась в Царском Селе или, если бы обстоятельства этого потребовали, переехала бы в Гатчинский дворец, находившийся в 40 верстах от Петрограда.
В Гатчине было еще спокойно, и тамошний гарнизон был верен присяге[1].
Генерал Лукомский и другие, говоря в своих воспоминаниях об отъезде государя из Могилева, останавливаются на одном предположении: «что, находясь в Ставке, государь якобы не чувствовал твердой опоры в своем начальнике штаба генерале Алексееве и надеялся найти более твердую опору в лице генерала Рузского в Пскове».
Это, конечно, совсем далеко от действительности.
К генералу Рузскому и его прежнему, до генерала Данилова, начальнику штаба генералу Бонч-Бруевичу, да и самому Данилову Его Величество, как и мы все, относился уже давно с безусловно меньшим доверием, чем к своему начальнику штаба.
Наше прибытие в Псков явилось лишь вынужденным и совершенно непредвиденным при отъезде.
Государь, стремясь возможно скорее соединиться со своей семьей, вместе с тем стремился быть ближе и к центру управления страной, столь удаленному от Могилева.
Мы оставались уже долго в купе у Федорова, взволнованно строя разные предположения о разыгравшихся событиях, но, узнав, что поезд отойдет не ранее 5 утра, наконец разошлись по своим отделениям.
28 февраля, утром, я проснулся, когда поезд был уже в движении. Погода изменилась – в окно вагона светило солнце, и как-то невольно стало спокойнее на душе после мучительной, в полузабытье проведенной ночи.
Размеренная, обычная жизнь вступала в свои права, и хоть ненадолго, вместе с надеждами, отгоняла тяжелые мысли от всего того, что совершалось тогда, далеко еще за пределами моего уютного вагона.
Я быстро оделся и направился в столовую.
Государь был уже там, более бледный, чем обыкновенно, но спокойно-ровный и приветливый, как всегда. Разговор был не очень оживленный и касался самых обыденных вещей.
Мы проезжали замедленным ходом какую-то небольшую станцию, на которой стоял встречный поезд с эшелоном направлявшегося на фронт пехотного полка.
Им, видимо, было уже известно о проходе императорского поезда: небольшая часть людей с оркестром стояла выстроенной на платформе, часть выскакивала из теплушек и пристраивалась к фронту. Остальные густой толпой бежали около наших вагонов, заглядывая в окна и сопровождая наш поезд.
Его Величество встал из-за стола и подошел к окну.
Звуки гимна и громовое «ура» почти с такой же искренней силой, как я когда-то слышал на последнем смотру запасных в Петрограде, раздались с платформы при виде государя и невольно наполнили меня вновь чувством надежды и веры в нашу великую военную семью и в благоразумие русского народа.
Но это было только мгновение.
Стоявший рядом со мной у окна Кира Нарышкин мне тихо, отвечая, видимо, на свои невеселые мысли, шепнул:
– Кто знает – быть может, это последнее «ура» государю, которое мы сейчас слышим.
Мои горячие переживания были облиты немного холодной водой, но надежда все же не остывала, и разум ей не противился.
Я все отказывался верить, что эта неожиданная, столь восторженная встреча государя со своими войсками действительно окажется последней и что дальше, кроме беспросветного мрака длинных годов, ничего более уже не будет.
Что думал и чувствовал государь, видя на маленькой станции в середине России безыскусственное проявление любви и преданности тех, родные братья которых в то же время буйствовали в далекой столице?
В чью искренность он больше верил? Не думал ли он, что одно его появление, так воодушевлявшее первых, заставит иначе биться сердца и у остальных?
По свойству своей натуры, по чуткому пониманию народной души, по примерам русской истории он, наверно, об этом думал, на это надеялся и на это в нужную минуту хотел решиться: он ведь не удалялся, не бежал от бунтующего Петрограда, а наоборот, старался приблизиться к нему.
Со страдавшей от болезни семьей он мог соединиться и вдали от столицы, как желала того и сама государыня, но соединиться с больной от безумия частицей народа он мог только там. Вот почему, несмотря на все доводы Алексеева, он не пожелал остаться в Ставке и просил императрицу не двигаться ему навстречу.
Императорский поезд продолжал двигаться беспрепятственно вперед через Оршу – Смоленск, на Вязьму, Лихославль, Бологое и Тосно, согласно маршруту, на этот раз не напечатанному красиво на толстом картоне, а лишь наскоро написанному на клочке бумаги и лежавшему у меня на столе.
В Вязьме – первой станции, на которой принимались телеграммы на иностранном языке, – государь послал телеграмму Ее Величеству на английском языке, сообщая о своем выезде в Царское Село и о принятых им мерах для восстановления порядка в Петрограде21.
На мелькавших затем станциях и во время остановок текла обычная мирная жизнь, где не было даже намека на что-либо «революционное». Бунтовал лишь Петроград – маленькая точка на безбрежном пространстве России, о чем мы неоднократно друг другу указывали.
Но агентских телеграмм, как бывало раньше, уже в вагон не приносили, и мы не знали, что делается в столице и в Царском Селе.
Генерал Воейков тоже, видимо, не имел сведений и, по обычаю, шутливо отмалчивался. Из разговоров в течение дня с другими товарищами и Кирой Нарышкиным я узнал, что была получена днем лишь телеграмма, посланная вслед императорскому поезду генералом Алексеевым и уведомлявшая, что восстание разгорается, что Беляев доносит, что остались верными лишь 4 роты и 1 эскадрон, с которыми он и был вынужден покинуть Адмиралтейство, где до того находился. Генерал Алексеев снова упоминал, что необходимо ответственное министерство и что думские деятели, руководимые Родзянко, еще смогут остановить всеобщий развал и что утрата всякого часа уменьшает надежду на восстановление порядка.
Читать дальше
|