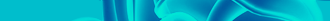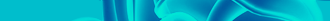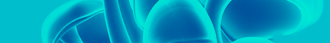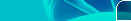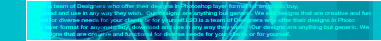Это меня встревожило; я быстро оделся и отправился пить утренний кофе в столовую. В ней уже находились Кира
Нарышкин, Валя Долгоруков и профессор Федоров. Они, как и я, ничего не знали ни об отъезде, ни о переговорах Рузского и высказывали предположение, что, вероятно, прямой провод испорчен, и переговоры поэтому не могли состояться.
Государь вышел к нам позднее обыкновенного; он был очень бледен и, как казалось по лицу, очень плохо спал, но он был спокоен и приветлив, как всегда.
Его Величество недолго оставался с нами в столовой и, сказав, что ожидает с докладами Рузского, удалился к себе.
Скоро появился Рузский и был сейчас же принят государем.
Мы же продолжали томиться в неизвестности почти до самого завтрака, когда, не помню от кого из штаба, мы узнали, что Рузскому после долгих попыток лишь поздно ночью, около 4 часов утра, удалось наконец соединиться с Родзянко.
Родзянко сообщал, что не может приехать, так как присутствие его в Петрограде необходимо. Там царит полная анархия, а слушаются лишь его одного. К тому же Луга взбунтовалась и якобы никого не пропускает. Все министры им арестованы и по его приказанию переведены в крепость.
На уведомление о согласии Его Величества о сформировании ответственного министерства Родзянко ответил, что «уже слишком поздно, так как время упущено. Эта мера могла бы улучшить положение два дня назад, а теперь уж ничто не сможет сдержать народные страсти».
Тогда же мы узнали, что якобы по просьбе Родзянко Рузский испросил у государя разрешение приостановить движение отрядов, назначавшихся на усмирение Петрограда, и генералу Иванову государь послал рано утром телеграмму ничего не предпринимать до приезда Его Величества в Царское Село.
Это пагубное решение отказаться от защиты законной власти войсками было вызвано, конечно, не просьбами Родзянко, который хотя и был когда-то офицер, но в военном деле еще хуже разбирался, чем в политике.
Оно являлось желанием самого Рузского, как он нам о том говорил еще накануне. По его словам, он желал избежать лишь излишнего кровопролития, но море затем пролитой и проливаемой крови наглядно свидетельствует, что высшие человеколюбие и предвидение были не на его, да и не на других генералов стороне.
Это распоряжение и советы вернуть на фронт высланные на усмирение петербургских улиц войска столькими ужасами отразились на моей Родине, что невольно вызывают необходимость хоть ненадолго отклониться от моего рассказа и на них остановиться подробнее. Именно ими около 10 часов вечера 1 марта и было положено начало тому, теперь уже полнейшему, бездействию, которое вызвало крушение величайшей в мире империи. Начальник штаба генерала Рузского генерал Ю. Данилов в своих воспоминаниях (Архив русской революции, т. XIX) так рассказывает о причинах, вызвавших подобное отношение: «К этому времени (вечером, после обхода, 1 марта) я получил очень тревожное известие о том, что гарнизон Луги перешел на сторону восставших. Это обстоятельство делало уже невозможным (?!) направление царских поездов на север и осложняло продвижение в том же направлении эшелонов того отряда, который, согласно распоряжению Ставки, подлежал высылке от северного фронта на станции Александровка в распоряжение генерала Иванова. Головные эшелоны этого отряда, который был отобран командующим 5-й армией из наиболее надежных частей, по нашим расчетам, должны были подойти к Петрограду еще утром 1 марта; но затем эти эшелоны были временно задержаны в пути для свободного пропуска министерских (царских) поездов, и где они находились в данное время, нам было неизвестно»25. В этом рассказе прежде всего вызывает недоумение, каким образом царский поезд мог задержать движение войсковых эшелонов, направленных из района между Двинском и Псковом на Петроград еще 27-го, а самое позднее – 28 февраля днем. Из приложенной схемы ясно видно, что в тот день императорский поезд находился на много сотен верст к юго-востоку от линии Двинск – Псков – Петроград, по которой направлялся двинутый на столицу отряд. Если, по расчетам ген. Данилова, головные эшелоны отряда должны были подойти к Петрограду еще утром 1 марта, то в эти самые часы мы находились где-то вблизи Бологого и, конечно, никому помешать не могли.
Императорский поезд подошел к Старой Руссе (приблизительно 200 верст восточнее Пскова) лишь в час дня 1 марта, откуда и была послана генералу Рузскому телеграмма, что мы двигаемся к нему, в Псков, с просьбой распоряжения о беспрепятственном проезде.
Таким образом, только лишь после часа дня 1 марта генерал Рузский мог узнать, что мы направляемся к нему из Старой Руссы через Дно в Псков, так как до этого (после Мал. Вишеры) о перемене нашего маршрута никому из высшего военного, да и железнодорожного начальства не сообщалось, а постепенно нами лишь предупреждались станции, находившиеся по движению впереди нашего пути. Наш поезд прибыл в Псков лишь около 8 часов вечера 1 марта. Следовательно, целый день и целую ночь 28 февраля и целый день 1 марта приблизительно 250-300-верстный путь от Пскова на Петроград был совершенно свободен для отряда исключительно важного назначения, и императорский поезд никоим образом не мог его задержать, как не мог задержать и впоследствии, оставаясь все время на Псковском вокзале и свободно пропуская самые обычные пассажирские поезда…
Еще более становится непонятным, каким образом взбунтовавшийся ничтожный гарнизон в Луге (какие-то незначительные автомобильные части) мог сделать «невозможным направление царского поезда на север» и «осложнить продвижение в том же направлении эшелонов, высланных по приказанию государя с фронта на усмирение бунтовщиков».
Ведь именно эти надежные отряды с войсками значительной силы и были направлены в окрестности Царского Села, чтобы устранять подобные препятствия, а не для простой прогулки в Петроград. На эти же отряды, конечно, ложилась и обязанность в случае необходимости открывать путь и для императорского поезда. Если даже один из эшелонов, подошедший без особой предосторожности к Луге, как рассказывали, и был там окружен и обезоружен мятежниками, то существовали еще и остальные эшелоны, следовавшие в самом близком расстоянии один за другим и, конечно, могшие без особого затруднения сломить сопротивление небольшой кучки забывших свой долг «товарищей».
Сообщение Родзянки о том, что этот, окруженный, эшелон якобы взбунтовался и перешел на сторону мятежников, было, по словам самого Рузского, не верно. Он говорил, что «он имел точные сведения, что этот эшелон в Луге не взбунтовался».
Генерал Рузский также говорил, что «гарнизон в Луге был невелик и не содержал боеспособных элементов и что с ним легко можно было справиться», но надежда, что благодаря манифесту об ответственном министерстве (еще даже не объявленном) возможно будет мирным путем прекратить беспорядки, не доводя до столкновения между частями армии, и привела Рузского, а по его совету якобы и государя, к решению вернуть эшелоны обратно в Двинский район. Это же решение одобряли и советовали из Ставки. Решение действительно роковое, а надежда слишком уж наивная – в какой стране и когда во время таких беспорядков и мятежей ответственное министерство, само по себе, без содействия военной силы, водворяло порядок, спасало страну и династию и обеспечивало победу?!! Если бы русская Государственная Дума действительно являла собою глубокую думу русского народа, а вновь назначенный и ответственный перед нею «премьер» Родзянко был действительно государственным человеком, он должен был бы умолять не о задержании вышедших с фронта войск, а наоборот, настаивать перед Рузским и Алексеевым об усиленной и скорейшей их посылке в столицу. Ведь лишь в этих войсках заключалась возможность спасения Родины! Но Родзянко владел уже 3-й день страх улиц, тогда как Рузский продолжал пользоваться значением и спокойствием в Пскове. Каким образом он – умудренный житейским опытом старик – мог вообразить, что петроградские фабричные и запасные вышли на улицу, стали убивать офицеров и городовых, грабить лавки, стрелять в войска и выпускать из тюрем преступников лишь для того только, чтобы добиться им малопонятного ответственного министерства, а не для более им близких и заманчивых целей! Да к тому же сама бушевавшая в Петрограде «многотысячная» толпа была невелика. По словам ее главных вожаков, она в первые дни не превышала 5000 человек, и прибытие с фронта 2–3 надежных полков с энергичными командирами (многие уверяли впоследствии, что и «одного крепкого батальона было бы достаточно») помогло бы быстро справиться с петербургским уличным бунтом и тем спасло бы все, и миллионы загубленных впоследствии человеческих жизней, и династию, и победу, и честь, достоинство и процветание Родины. Но единственным человеком из всего высшего командования, правильно и твердо оценивавшим обстановку, был только сам государь, отдавший своевременно и необходимые приказания. Даже ярые враги его – большевики, отдают ему в этом отношении должное и признают, что «только шаг, сделанный самим царем – разгром революционного Петрограда, мог бы спасти положение монархии». Верховный главнокомандующий в лице русского императора, беспредельно любившего свою Родину, безусловно, оказался на высоте своего положения. На этой высоте не оказались лишь его непосредственные помощники и исполнители его повелений. Их отношение к событиям и вызвало горькую и нелестную оценку государя, занесенную им в свой дневник от 2 марта. Оно же сильнее всего и повлияло на его решение отречься…
|