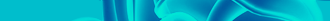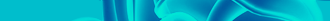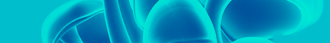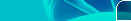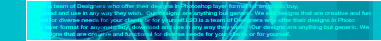Он и через 26 лет остался тем же скромным, застенчивым человеком, далеким от карьеризма и, как мне казалось, сплетен и к которому я чувствовал поэтому невольную симпатию.
Эти основные качества его натуры были, по-моему, очень схожи с простотою и замкнутым же, скромным, стесняющимся характером моего государя, и я убежден, по многим признакам, что Его Величество относился к генералу Алексееву с большей симпатией и любовью, чем к другим генералам, не обладавшим такими же чертами характера.
Понимал ли генерал Алексеев государя настолько, чтобы любить его как человека, был ли предан ему, как настоящий русский своему настоящему русскому царю, знал ли о заговоре? Вот те вопросы, которые я задавал себе неоднократно тогда и потом, и как тогда, так и долго потом не мог себе с достаточной ясностью на них ответить.
Многое, а после отречения и очень многое, судя по рассказам его близких, мне говорило «да», хотя всегда с неопределенною прибавкою: «но вряд ли достаточно», хотя бы до забвения сплетен. Я еще тогда не понимал, что можно самому не сплетничать, молчаливо сплетни выслушивать и все же одновременно иметь возможность, даже от них отворачиваясь, этим сплетням верить.
Императрица Александра Федоровна, насколько мне известно, относилась к генералу Алексееву сначала хорошо, потом все с большим недоверием. Ей сообщили о какой-то связи Алексеева с Гучковым, и это ее возмущало. Но нам, свите, эта подозрительная связь хотя и не нравилась, но казалась безопасной. Я лично думал, что Алексеев лишь «пробует» Гучкова, чтобы вывести его «на чистую воду»…
Генерал Борисов, близкий друг М. В. Алексеева, в частых разговорах со мною после отречения неоднократно выражал сожаление, что государь «не сумел с достаточною силою привязать к себе Михаила Васильевича и мало оказывал ему особенного внимания, недостаточно выделяя его якобы от других». «Тогда все было бы, конечно, иначе», – неизменно с полным убеждением доказывал мне Борисов.
Я не думаю, чтобы это было так.
Генерал Алексеев, по свойству своего характера, ничего, наверное, показного не требовал и тем менее домогался. Он даже отказывался от звания генерал-адъютанта, говоря графу Фредериксу, «что такой милости он еще не заслужил».
Хотя кто его знает – человеческая натура, в общем, странная вещь. Суворов, Кутузов и другие русские и иностранные полководцы, стоя даже на верху славы, были очень чувствительны к этому человеческому недостатку, и, быть может, в глубине души и Алексееву такие кажущиеся безразличие и «сравнение с другими» и были неприятны.
Но холодности и безразличия к нему со стороны государя в действительности не было, чему я бывал не раз свидетелем, и генерал Алексеев, если он был чуткий человек и понимал своеобразную, сдержанную, но и сердечную натуру государя, мог бы это подтвердить и сам.
Вспоминаю один вечер перед пасхальной заутреней 1916 года, когда государь потребовал из военно-походной канцелярии генерал-адъютантские погоны и аксельбанты и направился вместе со мной, бывшим дежурным флигель-адъютантом, в помещение генерала Алексеева, чтобы лично сообщить ему о пожаловании его своим генерал-адъютантом.
Его Величество довольно долго оставался в комнате своего начальника штаба и вышел оттуда довольно взволнованный.
Чтобы скрыть свое волнение, государь не сразу вернулся в ярко освещенный губернаторский дом, а войдя во двор штаба, где был маленький садик, предложил прогуляться. В садике было пустынно и темно; мы сделали молча несколько кругов; волнение государя, я чувствовал, уже начало проходить:
– Ну, что, Ваше Величество, – спросил я, – генерал Алексеев был очень доволен?
– Удивительно милый и скромный человек, – ответил только с искренней теплотой государь и опять задумался.
Вызывалось ли тогдашнее печальное настроение и задумчивость государя именно свиданием с генералом Алексеевым, я не знаю.
Вернее всего, лишь отчасти: в ту вечернюю нашу прогулку в темном садике мысли государя, вероятно, были далеки и от штаба, и от генерала Алексеева. Они сосредоточивались на его отсутствовавшей семье. Без нее государь всюду чувствовал себя одиноким, а та пасхальная ночь была первая, которую ему приходилось проводить вдали от своих. Лишь мой вопрос заставил его кратко отозваться с такой запомнившейся мне теплотой о своем начальнике штаба.
Все же нельзя сказать, чтобы к генералу Алексееву в те тяжелые смутные дни свита, находившаяся в Ставке, относилась с безусловным доверием и надеждой.
Что-то очень неопределенное, хотя и мало подозрительное, заставляло большинство из нас желать постоянной, а не временной, лишь ввиду болезни генерала Алексеева, замены его генералом Гурко, обладавшим, по нашему разумению, более решительными качествами характера и более прочно сложившимися традициями, чем генерал Алексеев, нуждавшийся к тому же в продолжительном отдыхе.
Желание это высказывалось нами неоднократно в наших интимных беседах за последние месяцы, было, конечно, совершенно далеким даже от намека на какую-либо «интригу» и осталось в числе тех многих платонических пожеланий, которыми мы иногда себя тешили в те дни.
Но к чести Алексеева надо отнести все же то, что он был единственным из сменявшихся впоследствии главнокомандующих, который решительно отказался жить в Ставке в комнатах, занимаемых ранее государем императором, и выбрал себе внизу губернаторского дома скромное помещение прежней военно-походной канцелярии.
По его словам, переданным мне его зятем и дочерью, он «считал для себя святотатством пользоваться обстановкой и мебелью, которые напоминали ему живо ушедшего императора».
Как бы иронически ни воспринимались многими эти слова, сказанные человеком, так много способствовавшим этому «уходу», в искренности их все же трудно сомневаться.
При многих недостатках характера Алексеев все же обладал простой русской душой и не любил громких фраз.
Я убежден, что он, в полную противоположность многим, не переставал мучиться своей ясно им с первых же дней отречения сознанной виной. «Никогда себе не прощу, – говорил он в начале марта, – что поверил искренности некоторых лиц и послал телеграммы с запросом командующим фронтами…»12
Но продолжал ли бы он мучиться ею, если бы переворот оказался «удачным» и «мирным» – я не знаю, а это для меня, конечно, было главным в моих внутренних суждениях о людях и событиях. Хочется думать, что его простая, чисто народная религиозность делает и такое предположение довольно вероятным…
Чтобы высказать полнее мое откровенное суждение о генерале Алексееве, мне приходится отступить здесь ненадолго от моего дальнейшего рассказа.
|